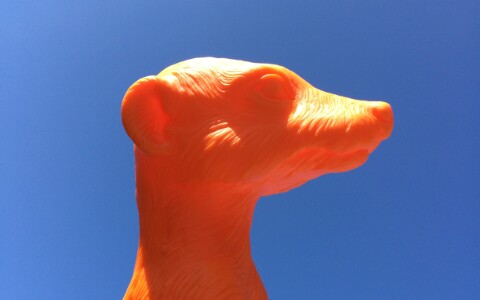Оготтоготт!
Как мы с моим мальчиком ездили в Сибирь, в санаторий, а там гуляли по снегу, и даже по нему убегали - от настойчивых женщин.

«Он скрипит, представляете?! Скрипит! А ноги, как в печке, представляете?» – так мой мальчик вспоминает свою единственную поездку в сибирскую зиму, - Оготтоготтоготт!»
Такое вот пылкое «боже ж мой».
Я жил тогда в Москве, он приехал ко мне, а потом мы отправились дальше — к моей матери в Сибирь.
«Так надо», — строго сказал он.
«Будет холодно», — предупредил я.
Та зима была образцово-показательной: с небесами слепящей синевы, с огромными сугробами снега, который от морозной сухости воздуха делается рассыпчато-сахарным. Мальчик достал на морозе фотоаппарат, хотел снимок сделать, а объектив пожужжал и затих, так и не вылупившись.
«От холода, представляете?» – вспоминает мой мальчик, а я соглашаюсь.
Это одна из немногих деталей, которую мы запомнили сообща.
Обычно он запоминает не то, что интересно мне, а меня занимает тоже совсем другое — и, вытряхивая ради гостей свои впечатления, мы рассказываем будто две разные истории. Но заевший объектив я помню хорошо, и когда мой мальчик снова таращит глаза в удивлении «боже-ж-мой-какие-сказочные-бывают-морозы», то я охотно дополняю в духе — «боже-ж-мой-какие-нелепые-бывают-иностранцы».
Он — большой и белый — шел по скрипучему снегу из одной избушки в другую, на голове его красовалась шапка-ушанка с советской кокардой, а на ногах были огромные валенки, две неповоротливые чурки, купленные по случаю, когда выяснилось, что морозы будут сорокоградусные, а мой совет «одеться потеплей» он исполнил, как умел.
На встречу с образцово-показательной сибирской зимой он прибыл в кроссовках щегольских-синтетических, в куртке чуть ниже пупка, а на вопрос «где твоя теплая одежда» продемонстрировал майку из ангоры — она была хоть и гораздо ниже пупка, но длинна недостаточно, чтобы укрыть, например, ноги.
Моя мать вскрикнула и побежала за одеждой.
Да, вспомнил, кроме шапки-ушанки и валенок она купила ему телогрейку, и вот — помню — он шел из одной избушки в другую, и казался мне героем фильма о военнопленных в ГУЛАГе.
Мы приехали в санаторий. Это был аутентичный сибирский санаторий — все, как заказывали. Деревянные строения, раскиданные по редкому лесу, узкие тропинки в сугробах, а одна из них ведет к полуповаленной беседке, где из позеленелого краника выливается целебная горячая вода. В одном домишке болезных помещают в ванны, в другом делают массажи за деньги, немаленькие даже для ряженых иностранцев, а на окраине притаилась роскошь — за кустами, за полянами торчит веселая избушка — крепенькая такая, складная.
«Баня-сауна. Туда блядей возят», — сообщила мне льстивая старушка, которая в санатории служила не то вахтершей, не то библиотекаршей.
Мы пробыли дней пять или шесть.
Ехали в санаторий на разбитом автобусе, что тоже было аутентично: по гладкой, выравненной снегом дороге дребезжит металлическая коробочка, внутри которой холодней, чем снаружи, старики и старушки рядами сидят, покорные, тихие, почти бестелесные — готовятся к райской санаторной жизни.
«Божежмойбожежмой», — бормотал мой мальчик. Оготтоготт.
Комнатки в санатории были крохотные, кровати железно-больничные, из окна дуло, а стекла выморозило до молочной бледности, не видно было из них ничего, свет они испускали рассеянный, как в какой-нибудь лаборатории.
Мы гуляли, целебную воду пользовали разнообразным образом, мальчик ничему особо не удивлялся, но относился к происходящему, как к реальности параллельной — он, допустим, попал в Страну чудес и был в ней Алисой.
Совсем скоро Алисой сделался я, оказавшись на его родине, где удивляться тоже был неспособен: а кто их знает, этих иностранцев, все у них по-другому.
Мужчин в санатории было мало. Одни были безнадежно больны и шаркали, едва дыша, с неснимаемой мукой на лице, — сосредоточенные, серые. Другие – плотоядные алкоголики, казановы на плэнере, юркие сперматозоиды.
Мой мальчик выглядел там диковиной и имел успех.
«А в кафе танцы», — поведала за обедом соседка по столу, толстая одышливая женщина неясных лет.
Да, была в санатории и светская жизнь. С наступлением темноты самые здоровые из отдыхающих собирались в кафе, переделанном будто из поликлиники. В комнате довольно большой были расставлены столы из белого пластика. На стенах — чахлая растительность в вязаных кашпо. Стойка бара наискосок, за ней — полки с бутылками.
За музыку отвечала тощая барменша в халате — по заказу гостей меняла диски. Репертуар был гремучий и особенно визгливый — как бывает, если попсу повенчать с русской душой; вдыхает она, томится, но на ускоренных оборотах.
«Иностранцы!» — ахнула женщина в рыжем перманенте и чем-то цветасто-бирюзовом.
Я помню, что она была сухощавой, живой, а зубы у нее были золотые. Когда улыбалась, на зубах вспыхивали огоньки.
По ее настоянию мы заказали водки, соку. Полноценной еды не подавали, потому что это было кафе, а не столовая. На тарелочке образовались чипсы.
Невкусно пить водку с чипсами — я теперь это точно знаю.
«У меня все есть», — говорила рыжая женщина, которую звали, например «Галей».
Она рассказывала, а я переводил.
У нее где-то под Хабаровском торговля. Магазин, кажется. Дом у нее крепкий. Хозяйство. А мужика нет. Умер, вроде бы.
«Мне нравятся коровы», — добросовестно сообщил мой мальчик.
Ему они действительно нравятся. Он считает коров образцом пользы — и молоко тебе, и мясо, и рога с копытами.
Галя оживилась. Снова надо было пить. За любовь, наверное.
Я переводил, как умел — приходилось кричать, наступило время танцев, из углов потянулись веселые девушки всех возрастов, а самые настырные даже с кавалерами — кто с тенями, а кто и с казановами.
Я в таких местах чувствую себя неуютно — гнилым зубом в окружении здоровых и крепких. Им хорошо, весело, они приятно проводят время, а я раздражаюсь из-за ерунды — шарманочной музыки, спертого воздуха, убогости обстановки.
«Какой бравый мужик, какой бравый, — этот вздох Гали я точно помню, — А ты-то что ж тощий такой? Кушай побольше», — сказала сердечно так, участливо.
Потом они принялись плясать и было смешно смотреть, как сухонькая рыжая женщина таскает на себе неповоротливого белого дядю в огромных валенках. Он возил валенками по полу, а она вертелась юлой.
Ушли мы по-английски.
«Куда?» — требовательно звякнула Галя, едва мы встали.
«В туалет», — сообщил я новой знакомой, которая сделалась совсем уж требовательной.
«Теперь тебе есть, чем заняться, — смеялся я, когда мы хрустели по снежку в свою лабораторную комнатку, — В баню девушку своди».
«Божежмойбожежмой», — вздыхал мой мальчик. В Сибири эта скороговорка стала для него любимой.
«И вообще, поезжай к ней! Она тебя на руках носить будет», — я был уверен, что сообщаю чистую правду.
И ведь правда — будет.