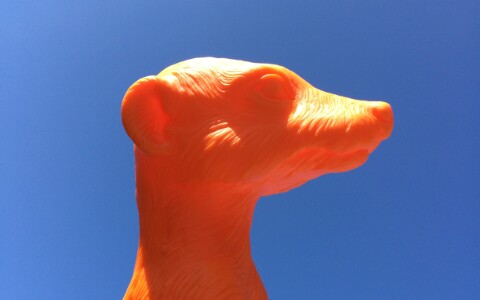Квир-танго Вани Кильбера
«Ах, ты гомофоб? Мне тебя очень жаль».
На счету Вани Кильбера много важных квир-проектов: был одним из основателей Quarteera, самой известной в Германии русскоязычной ЛГБТК-организации; придумал знаменитый «радужный флешмоб»; оказался у истоков «Плюс голос», международного движения родителей квир-персон. Как парень из Северного Казахстана вырос в одного из самых известных в Германии защитников прав и свобод русскоязычных квир-людей? И причем здесь танго?

Первое, о чем стоит подумать, это танго. И потому, что он с удовольствием этот танец танцует, и потому, что кажется, что все коленца его судьбы, все решения, — глядя со стороны, возможно, неожиданные, — имеют все же свою внутреннюю логику.
Конечно, заслуги его перед обществом безусловны, о чем свидетельствует уже ряд немецких наград. В 2024 году, в апреле он был удостоен премии Paritätische Ehrenadel in Silber, а в сентябре ему вручили Rainbow Award, берлинскую премию за «вклад в защиту и продвижение ЛГБТК-прав и гендерного равенства». Но думая о сквозной метафоре его жизни, стоит помнить о танго. Причем, необычном танго, — там гендер партнеров не играет роли, главное, чтобы меж ними была искомая танцевальная гармония.
Это квир-танго.

Не Iwan, как могли бы написать в паспорте, а Wanja. Имя, уменьшительно-ласкательное в русском и вполне самостоятельное, достаточно серьезное в немецком.
Кильбер поясняет:
«Пожалуйста, только Ваня. Я из семьи российских немцев. «Российские» означает переселенные в Российскую империю. Мои родственники были депортированы из Крыма в Казахстан. У нас у всех в семье были двойные имена. Моего дедушку Фридриха звали Федя. И у меня есть одно немецкое имя, а еще вот этот Wanja. Он мне дает какое-то чувство спокойствия, видимости. Я настолько привык к этому Ване, что Иван – это как будто бы другое имя, на которое я не откликаюсь больше».
Рудный-Чудный-Трудный, — рифмует он. Все это не просто слова, созвучные названию города в Костанайской области на севере Казахстана, где родился Ваня Кильбер. Город Рудный — город трудный. Была советская мечта, а потом эта мечта закончилась.
«Это город-ровесник моих родителей. Созданный в тот же год, когда родилась моя мама. В степи нашли залежи железной руды. И из ничего построили город, куда позвали на советскую стройку всяких комсомольцев с гитарами. И приехало много довольно инициативных людей. А еще там были ссыльные чеченцы — их ссылали во время Второй Мировой войны, еще до того, как был создан город. Туда же Сталин ссылал немцев. Там «Казлаг» был, казахстанский ГУЛАГ. В общем, город, полный противоречий. С одной стороны, сильная бардовская культура, театральная культура. С другой стороны, очень много гиперкриминальных элементов. Там никто после наступления темноты на улицу не выходил.
Первое, что вспоминаю о городе — это тополь, любимое дерево. Большие тополя, аллеи, тополиный пух. Второе – это степь, в которой я гуляю с собакой. Степь большая, у нас там полная свобода. Мы носимся, делаем что хотим, но в степи ходят гопники. И от гопников нужно убегать, потому что драться я не умею. Я там отличник-мальчик».
Слова «родина» в словаре Вани нет, — так он говорит. Но готов считать родиной свою семью. Его родители — инженеры, техническая интеллигенция. У матери — российско-украинские корни. По отцу Ваня — немец.
Как вспоминает, из-за фамилии, бывало, называли «фашистом», но в целом «немецкость» никаких особых трудностей для него не создавала. В тогдашнем Казахстане хватало потомков высланных во время Второй Мировой поволжских немцев. Для Вани это тоже часть истории его собственной семьи.
«Мне бабушка рассказывала, как она выжила. У нее было два кирпича. И это было ее спасение. Когда поезд останавливался, есть нечего, они выходили, и у нее была два кирпича, между которыми можно развести огонь, поставить на них чайничек, что-то сварить, зерна кинуть. Супчик. А у кого не было кирпичей, те не могли сделать себе горячее. Ей было 11 лет, по-моему. Почему сослали? Просто потому, что говорили по-немецки. «Предатели».
Он покинул Казахстан в 16 — на правах этнического немца уехал с родителями в Германию. Поворотным во всех смыслах для него стал его первый день на немецкой земле, — вернее, уже первые минуты в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне.
«Я всегда понимал, что, скорее всего, гей, и я переезжаю в Германию и почему-то ощущаю, что здесь «можно». Мы приземлились во Франкфурте, и первое, что вижу, это два мужчины, которые проходят мимо нас, держась за руки. Я смотрел им вслед, и не мог поверить, что такое возможно. Я сначала сделал каминг-аут в общении с друзьями, они как-то меня поддержали, а потом решил, что надо и семье рассказать. И вот мы празднуем Рождество, вся семья собралась. Вот тетя, дядя, племянники, бабушки,— двоюродные, троюродные. Захожу, набираю воздуха и прямо в дверном проеме говорю: «Я — гей». И от внутреннего напряжения аккуратненько-аккуратненько, по косячку падаю в обморок. И потом уже ничего не помню. И помню только, как открываю глаза, меня бьют по щекам, нашатырь перед носом. Люди собираются, одевают шубы, расходятся, карп стынет, немецкий рождественский на столе. В общем, праздник удался. Мама плачет, папа ест валидол».
В шестнадцать лет вывалив все разом, Ваня лишь преумножил прессинг, — его гомосексуальность стал чем-то вроде слона в комнате, которого родные, близкие люди предпочитали не замечать.
Следствием, по его словам, стало «дичайшее православие» — взялся изучать Библию, пошел в церковь, познакомился с православными приходами в Вуппертале, Дюссельдорфе, Нойсе, Крефельде. Ныне, спустя годы, Ваня Кильбер дает такое определение своему тогдашнему положению: «ловушка». В ней он пробыл до двадцати, вплоть до студенчества.
«Русская православная церковь приходит к тебе. И вот «буфет», — смотри, ты можешь выбрать 38 объяснений, почему ты зло, ты должен отрезать «это», выкинуть часть себя, — с мясом, давай, ты будешь другой, ты будешь без ноги, без сердца, без головы, калека, но зато православный и настоящий».
Оказавшись в Германии, Ваня с родителями пожил в нескольких лагерях для переселенцев, — в бывших американских казармах. Затем был Вупперталь, на северо-западе Германии. Оттуда уехал учиться в школу-интернат.
«Там была возможность взять русский как второй иностранный. Я приехал уже великовозрастным старшеклассником, и у меня два пути: либо иду в «хауптшуле» (общеобразовательную школу, — прим. КК), либов гимназию. Для гимназии по немецким законам нужно сдать два иностранных. Я не знаю английского, я не знаю немецкого. И какие два иностранных? А в интернате была возможность русский записать как второй иностранный.
Интернат был местом свободы. Вспоминая, я сравниваю его с каким-то царско-сельским лицеем, — там было много хорошего. Там была и театральная труппа, которая на меня повлияла. Там были какие-то музыкальные группы. Было озеро рядом. Но привезенная из того же Казахстана, из России, из Кыргызстана, из Польши, вот эта уличная гомофобная культура шутить или как-то унижать, — она была.
Почему меня не били? Я думаю, потому что у меня всегда были друзья, в том числе и на каком-то очень «том» берегу, среди каких-то там боксеров-гопников. В интернате я жил с самым большим парнем в нашей школе, — мастером спорта по боксу, в одной комнате. Мы с ним очень дружили, мы ездили на рыбалку, я помогал его родителям с пасекой (у меня дед – пасечник). Ездили друг к другу в гости. Прекрасный, огромный Женька Гернер. Мы дружили, он знал, что я гей».
После школы-интерната — университет. Выбор специальности был, кажется, заранее предрешен: школьником Ваня регулярно побеждал на олимпиадах по физике. Студенческие вольности, как это часто бывает, подстегнули стремление к самопознанию. В университете он пошел в группу, объединяющую гомосексуалов. Как это было?
«Настольные игры для студентов-геев. Это маленькая каморка, где на стенах портрет Мадонны, а холодильник забит шампанским, и кажется, все должно быть весело, но тут просто приходят очень-очень скромные первокурсники, и перед нами эти немецкие «настолки»; мы сидим и грустно играем. Зато я там влюбился в первый раз в жизни «ответно» и ушел оттуда со своим первым прекрасным другом, с которым мы счастливо прожили вместе три года, и до сих пор дружим».
Мог бы стать дипломированным физиком, математиком, мог бы пойти в крупную компанию заниматься статистикой и получать хорошие деньги. Но, стоит напомнить, речь о танце особом, сложно предсказуемом. Ваня всерьез заинтересовался театром теней. Что это такое?
«Представь себе Бали, Яву или Южную Азию. Простынь, которую натянули на два бамбука, за ней развели костер, и собрались дети, деревня, публика, а перед ней, перед этой простыней, на простыни, прижимая фигурки из черного картона (а на Бали это была выделанная кожа). И там дракон. На бамбуковых палочках его ведут, и рядом музыканты. Вот так оно все зарождалось. В моем случае очень похоже, просто замени костер на несколько прожекторов, которые умеют менять цвета. Бамбуковые палочки остались, фигурки более-менее похожие, это сложносочиненные, со многими шарнирами фигуры, которые могут двигаться.
Театр теней. Появился в Китае, в Европе стал популярен в XVIII веке, а в наше время — скорей, редкость. Для студента-физика интерес, пожалуй, экзотический. Ваня объясняет, что в театр теней он пришел «через гейство». Его тогдашний парень играл в волейбол в гей-команде. Сам Ваня быстро понял, что волейболиста из него не получится, но зато там довелось познакомиться с человеком, который увлекался необычными театрализованными представлениями.
«Я пришел к нему сначала кого-то заменить, потом фигура сломалась, и я ее отремонтировал, потом понадобилась новая фигура, он меня попросил, я сделал, а потом через год — придумал уже целую постановку с декорациями, с разными фигурами. Я в этот момент понял, что могу это делать легко, быстро и с вдохновением, и людям нравится».
Он и кукловод, и создатель декораций, и немного драматург. Первый спектакль, придуманный самостоятельно, — «Дикие лебеди» по сказке Андерсена. Считать театр хобби становилось все трудней, и вот уж родителям пришлось принять этот факт, — ученого из их ребенка не получится. Тогдашний переход из физиков в лирики Ваня Кильбер сравнивает со вторым каминг-аутом — и это был другой, уже окончательный «выход из шкафа».
Ване двадцать, он - студент, у него есть парень.
«Второй каминг-аут был уже прекрасен. Он был настолько легок и, не знаю, вдохновляющ... Я уже знал, на что иду, что получу. Я влюбился в человека. У меня было такое ощущение подъема и чувства правды, которая горела под ногтями… И я был готов говорить тогда уже с новой силой — и с миром, и с родными, и с друзьями. И тогда у меня все пошло. Мой папа перестал пить валидол, а стал с моим другом курить на балконе или в кухне чинить раковину. Они подружились с сестрой, с мамой. Я понял, что люди, которых, как мне казалось, я потерял на уровне глубокой привязанности, на уровне возможности говорить на важные темы, — они вернулись. Я понял, что могу говорить с людьми, и люди меняются. И у меня вернулась вера в этот мир, — что мир меня может принимать, что я могу мир менять. И этот второй каминг-аут меня изменил — и это, думаю, было рождением моего активизма. Эта, вот, первая любовь, «ответная», когда все хорошо, она подарила ощущение, что мир может меняться, и я знаю точки приложения, как изменить мир».

Ваня Кильбер вспоминает, как еще в давние прежние годы делал спектакли для детей и подростков, в которых шла речь об изменении климата, о гендерной идентичности. Логично, наверное, что активизм, — призыв к общественному разговору о наболевшем, — по первому порыву стал для него действом театрализованным.
«Долгое время эти две дорожки шли параллельно. Вот здесь я рыбу заворачиваю, а здесь я — активист. А потом — хоп! — и получается, можно какие-то активистские формы делать театральными методами. А, прямо, общественным активистом я стал с акцией, которая называется «Радужный флешмоб».
В 2009 году, 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией в Гамбурге, Ванкувере, в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Тюмени, Волгограде, Ростове-на-Дону, Иваново, Кемерово, Томске, Омске (в общей сложности в трех десятках городов Германии, Канады и России) люди привязывали открытки с пожеланиями к воздушным шарикам и, запуская их в небо, фотографировались.
«Я тогда думал, как срежиссировать такую акцию, в которой может принять участие кто захочет, более-менее безопасно и выбрать свою форму. Я придумал вот этот запуск радужных шаров, на которые ты можешь привязать открытку с каким-то посланием, все это сфотографировать и запустить шар с балкона».
Уже в 2010-м «радужный флешмоб» прошел в 50 городах десяти стран (в том числе в Украине, от Киева до Херсона). В 2012-м только в Германии шарики в небо 17 мая запускали в двух десятках городов. В Дрездене было около 400 участников, а в Гамбурге, где Ваня живет и по сию пору, в два раза больше.
«В общем, вот эта вот театральность была с самого начала. Потом я придумывал какие-то театральные формы для прайда. У нас был радужный дракон, — китайскими драконами вдохновленная форма. Из говна и палок, реально. Это были бамбуковые палки, на которых мы надували велосипедные камеры. Сверху радужное покрывало, а потом сложная голова. Дракон носится, как бешеный — его восемь человек водят, — он летит над толпой. Вот такое меня всегда вдохновляло».
В акционизме той поры есть что-то детское, — чистая незамутненная радость от простых, но на свой лад чудесных действий. Принять участие легко, почувствовать себя частью огромной общности весело. Для прессы же, включая международную, — идеальный материал, визуально яркое напоминание о разнообразии мира.
В 2011 году Ваня Кильбер получил свой первый опыт выступления в эфире российского ТВ. В студии Первого канала в Москве — не только квир-активисты, но и гомофобные крикуны всех мастей.
Он вспоминает:
«Подключили через гамбургскую студию. Я сижу там на кресле крутящемся, верчусь из стороны в сторону, у меня ангельские кудри до плеч. В наушниках слышу, что там просто «содом и гоморра». Там бабки кричат каким-то древнегреческим хором. Там безумные хоругвеносцы топочут. Там их пытается вразумить Игорь Кочетков из ЛГБТ-сети. Сеттинг такой: слово против слова; ты говоришь — я говорю, кто больше кого перекричит».
Поводом для ток-шоу на российском ТВ стало изгнание журналиста Николая Троицкого из государственного агентства РИА «Новости»: побывав на берлинском прайде он выразил свое возмущение в блоге в Живом Журнале, пожелав публично бомбу, «которая убивала бы только гомосексуалистов».
Троицкий был уволен за нарушение этического кодекса. И стоит напомнить дату: это лето 2011 года, журналиста государственного медиа лишают работы за публичную гомофобию, то есть за то, за что спустя десять лет в России уже готовы награждать. Слова Вани Кильбера, квир-активиста из Гамбурга, прозвучавшие в прямом эфире, получают вполне заслуженные аплодисменты.
«Послушал вашу дискуссию, — сообщил Ваня Кильбер в эфире популярного российского ток-шоу, — И мне показался очень странным тот аспект, что все так боятся карнавальной составляющей берлинского парада. Это ведь всего лишь ряженые люди, которые есть на Масленице, которые есть на российских свадьбах. Я не понимаю, чего люди боятся. Какой низкой должна быть самооценка, чтобы испугаться мужика в платье?» — в студии смех, аплодисменты.
Это были последние месяцы исторического оптимизма — еще живы надежды, что Россия пойдет по демократическому пути. В декабре 2011 года начались массовые протесты на Болотной площади в связи с фальсификацией парламентских выборов. Акции, продолжавшиеся два года, были в итоге жестоко подавлены, а путинизм, прежде то более, то менее убедительно притворявшийся человеколюбивым, показал свое истинное лицо.
Инаковость из предмета обсуждения стала в России поводом для преследования. В 2013-м был принят федеральный закон о запрете на так называемую «пропаганду ЛГБТ» среди несовершеннолетних. И что это, как не пища для художников, занимающихся политическим искусством?
Ваня Кильбер вспоминает:
«В какой-то год у нас были плакаты «Legalize It», где Путин с Медведевым на одном плакате и подпись розовым, — типа, легализуйте уж, давайте, однополые союзы».
Речь о «том самом» плакате: Владимир Путин, вновь избранный российский президент, и премьер-министр Дмитрий Медведев как пара мужчин в истошно-яркой, намеренно-кичевой, ядовито-анилиновой стилистике «Пьера и Жиля», французских квир-художников. Это изображение, впервые появившееся на шествии в Берлине в 2012-м, стало позднее каноническим едва ли не для всех прайдов по всему миру, вот она — новая Россия, вот они — актуальные символы государственной гомофобии, синонимы ханжества, образы зла.
«Это стало медийной бомбой. Даже китайские медиа писали, не знаю почему. Видать, никто не ждал кириллицы на прайде. Мне кажется, это было самое первое и самое яркое выступление».

Тогда в русскоязычном пространстве о «гей-парадах» и обо всем, с ними связанном, говорили много, — так формировались полюса сторонников и противников. Это было время не только радикализации позиций, но и время консолидации. В 2011-м Ваня Кильбер стал одним из основателей организации Quarteera, объединяющей русскоговорящих квир-людей в Германии.
«Сейчас я понимаю, насколько это было важное решение. Тогда я был политически неграмотен, не понимал, что хорошо организованная группа людей может сделать в 10 раз больше, чем горящие делом одиночки. Что организация имеет больший вес. Мы это почувствовали, когда мы начали делать демонстрации, а после этого ходить в бундестаг (и требовать, допустим, отдельных общежитий для геев-беженцев и транс-беженок)».
Наверное, не будет преувеличением сказать, что об опасности путинизма для мира волонтеры из Quarteera узнали в Германии одними из первых, — а может быть и самыми первыми осознали, насколько близка и страшна катастрофа. Ваня Кильбер вспоминает о первой волне квир-беженцев из России, где гомофобия стала государственным стандартом.
«К нам сначала приехали люди из России. Мы им ответили: «Ребята, если у вас что-то случилось, обращайтесь в Quarteera, вот наш адрес, вот наша памятка». Мы нашли адреса всех queer-friendly адвокатов в Германии, которые работают с беженцами. Мы составляли списки. И тогда я, прям, понял, что значит визитка, где написано «e.V», «зарегистрированная организация». Ты приходишь, открываешь кабинет, кладешь визитку на стол хоть кому – к юристу, к медику, к политику, и они смотрят «о, зарегистрированная в Германии организация, значит, надо прислушиваться, потому что, если что-то пойдет не так, если мы сфакапим, то это будет в медиа».
Ваня Кильбер признает, что для Запада символом квирфобии в странах Post-Ost, стала Россия. Однако он подчеркивает, что враждебность по отношению к себе испытывали и испытывают квир-люди многих стран постсоветского пространства. Причины сложны, многообразны: неизжитый советизм, радикализация исламистов, радиация путинизма.
За помощью в организацию Quarteera начали обращаться квир-люди не только из России, но из Беларуси, стран Кавказа, Центральной Азии. И всем надо было помочь. Реконструируя то время, Ваня говорит о «синдроме спасателя», — вернее, об опасности помощи в ущерб себе.
«Мы просто пошли и создали свою сеть поддержки. И вот приезжают-приезжают-приезжают новые люди. Без языка, у всех какие-то травмы, а еще ретравматизации в лагерях беженцев. Мы, вроде, переводим им, ходим с ними, пишем письма какие-то, опять переводим, переводим, выслушиваем. Мы не умели выстраивать границы, созванивались ночью, если что-то случилось. Ты — активист, там происходит что-то злое – значит, бери трубку, пусть и ночью. И тогда было много очень «выгоревших» людей, которые не выдержали этот ритм. И я помню наши встречи в Вальдшлёсхене (это академия ЛГБТК-активистов в центре Германии, под Геттингеном, прекрасная институция). И мы там собирались раз в год, чтобы сверить часы, понять, где мы находимся, просто увидеться вживую, — из Баварии, из Вестфалии, я из Гамбурга, кто-то Берлина. И вот мы там собирались. И я помню, как много мы ревели. То есть сидим, здоровые тети-дяди, и рассказываем, что мы пережили, — как кто-то из беженцев совершил самоубийство, «я за ним ухаживал и не уберег». Тогда мы приняли на себя много боли. И одновременно отдали много. Кто-то работу потерял, потому что понял, что это сейчас важнее, — надо делать».

Вплоть до 2022 года Quarteera была полностью волонтерским проектом, — а значит, требовала абсолютной погруженности в квир-проблематику при абсолютном же непонимании, какую плату за это придется платить психике энтузиаста, желающего сделать мир лучше.
«Долгое время казалось: ну, это же такая важная работа, как можно за нее просить деньги? Мы собирали пожертвования довольно успешно. Я впервые в 2014 году понял, что это реальная форма демократического гражданского содействия. Мы говорим: мы помогаем беженцам, нам нужны деньги на переводчиков, на курсы языковые, и еще на что-то, дорожные расходы, помогите. И у нас средний размер пожертвования был 5 или 10 евро. Но мы собирали пятизначные цифры. 20 тысяч евро, 40 тысяч евро в год. Люди подписывались, мы отчитывались, что мы делаем. Мне кажется, уже никто так не работал. В Петербурге организации давно работали на гранты, они профессионализировались много раньше нас, а мы как будто бы плелись в конце. И только к началу большой войны мы пришли в таком состоянии, что смогли, — хоп! — за год создать 13 рабочих мест в организации, где на зарплате у нас есть юрист, у нас есть психологическая поддержка, у нас есть социальная работница и так далее».
Сейчас кажется, что все, что было с организацией Quarteera до 2022 года — это лишь подготовка к главному, своеобразная репетиция. После 24.02.2022 весь опыт волонтерской работы, накопленный за прежние годы, оказался востребован как никогда. В Германию хлынули потоки беженцев; среди них хватало и квир-людей, которым нужна была особая поддержка, особая помощь.
«За первый год войны полторы или две тысячи квир-людей из Украины к нам обратились, по-моему, — и мы их как-то принимали. И плюс у нас был вес в немецком квир-сообществе. И вот мы публикуем call to action и говорим: ребята, едут люди, государство не способно принять всех, в общежитиях небезопасно, предлагайте ваш диван, угол в квартире, ваш дачный домик, — пишите нам. И у нас появилась огромная база данных на несколько сотен квартир по всей Германии, где можно было найти «мэтч». Вот приезжает пара двух лесбиянок, а у них кошка, а здесь, значит, нужно, чтобы у принимающей стороны не было аллергии на кошку.
Я смотрел и не мог поверить, насколько все круто организовано. И это помогало пережить ужасы войны. Ужас состоит в чем? Что ты не можешь изменить ситуацию, а там такое зло происходит глобального масштаба. Если ты живешь где-нибудь в Нижневартовске, ты ничего не можешь изменить. А мы здесь, в Германии, находились в такой ситуации, что могли помогать. И не было времени просто задумываться еще о других каких-то ужасах. Ты приложил силу и видишь отдачу, — ты помог. Это была блаженная ситуация. И вот на этом энтузиазме люди выезжали».
Говоря о первых месяцах после начала полномасштабной войны в Украине, Ваня рассуждает в категориях «мы», он выступает от имени общности и частью оной себя чувствует. Но важно, пожалуй, обозначить и его личное участие. Он конкретизирует:
«У нас сейчас система тикетов. Тикет — это задача, которую ты получаешь. Она подвешена, ее надо выполнить, потом написать: «получил», «в процессе выполнения», «выполнено». В общем, все как у взрослых, что называется. И задачи самые разные. Проблема в общежитии. Там какое-то нападение. Или люди приехали и не понимают, почему на ужин нет борща, почему на ужин просто хлеб. Или как ходит автобус. Я не знал раньше, что в Германии есть автобусы, которые ходят только по телефонному вызову. И твоя частая работа — позвонить в автобусную компанию и сказать, что завтра в 19.30 вас будут ждать, — на этой остановке возле этой деревни, где до следующей деревни 40 километров, а между ними только степь да степь. Хорошо, записали, приедем. Или было нападение, ты звонишь и говоришь: «Здравствуйте, администрация!». Хорошо поставленным, театральным немецким голосом рассказываешь, что нужно порешать ситуацию. «А вы попробуйте, а кто ответственный?» Ну, если что, пригрозить прессой».
Умеет ли он плакать? Отзывчивость к чужому чувству — это, наверное, важное для «трушного» активиста свойство личности. А как его еще выражать, как не через слезы?
Ваня Кильбер признает: да, как говорят немцы, «родился рядом с водой». И описывает сцену на недавнем «Марцан-прайде», очередном квир-шествии в берлинском районе многоэтажек, где среди жителей традиционно много русскоговорящих.
«Окраина Берлина, — панельки, все знакомо, узнаваемо и народец, и говорок иногда узнаваемый. Два года назад там было нападение на меня, — мы столкнулись с, с какими-то чуваками, и, в принципе, после этого я мог бы разреветься. Но нет, такое меня не трогает. А тут Marzahn-Pride — между домов фонтан, где дети купаются, здесь палатка с борщом холодным, здесь какие-то НКОшки, которые помогают искать жилье для квиров, которых выгнали из дома. А вот у нас сцена, на ней выступают политики, певцы. И выходит Миша Бадасян, любовь моя армянская рыжебородая, прекрасный активист. А я вел как модератор все это дело. Жуткая жара, и народ уже отошел от сцены, из-за жары спрятался куда-то туда, под сень псевдоакации. Играет армянская музыка, и босиком по этому горячему асфальту в фате, в белом свадебном платье выходит Миша Бадасян, просто как небесная невеста, и на руках, расставленных направо и налево, у него висят длинные армянские лаваши. Он знает, как танцевать, — там одно движение пальцами, и в этом видишь грацию. И он идет к этим людям, которые прячутся от солнца, — местные жительницы, дети, бабушки, дедушки, — он для них танцует этот танец, угощает их лавашом. Этот жест замедленный, когда он протягивает и ждет: ты возьмешь мой хлеб, ты возьмешь мой абрикос? Они смотрят на него, влюбленными глазами, и берут, и он потом снимает фату, и там у него прекрасная борода до груди. Он дарит любовь. Я смотрю на Мишу, слезами обливаюсь, — думаю, насколько это модель моего будущего. Такой маленький, сформированный в этом пространстве и времени кусок будущего, которое, оно вдруг благодаря ему, благодаря нам, стало реальным, возможным, — настолько заразительным, что я в него верю. Оно уже не у меня в голове спрограммировано. Вот какой-то Колян с района, с бутылкой пива у Миши с благодарностью забирает абрикос. Я его увидел, я его пережил, я знаю, что это возможно, что так будет. В такие моменты я реву».

Новое детище, новый проект, о котором Ване нравится рассказывать — международное движение родителей квир-детей. Там и участие в прайдах, и цикл просветительских видео, и серия интервью, и группы взаимопомощи.
«Выбрали название: «Плюс голос». ЛГБТК+ – частая аббревиатура. И мы говорим: плюс голос родителей. Плюс М – мама. Плюс Д – дедушка. Чтобы ЛГБТК+ чувствовали себя не совсем ограниченными в обществе, а понимали, что у них есть свой социальный круг. Их могут поддержать. и быть какими-то послами, амбассадорами между ЛГБТК+ и условным большим обществом. Потому что родительский голос часто понятен. Это маленькие родительские группы — в Армении, Беларуси, в Молдове, в Грузии, в Украине, в России, в Польше, — которые там у себя на местах, в своих странах, борются за нормальную жизнь для своих детей и поддерживают друг друга. А мы, «Плюс голос», объединяем их. Уже проходят встречи в Zoom. Каждый месяц встречаемся. Помогаем им ездить друг к другу на прайды или просто учиться друг у друг. Сейчас у нас девять групп из восьми стран. D нашем чате, в котором периодически они общаются, встречаются, восемьдесят четыре, по-моему, человека. Это очень много для нас. Представляешь себе, активные родительницы из Петербурга могут общаться с мамами из Армении?!»
Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 2016 году, — при поддержке германского МИДа была устроена конференция русскоговорящих родителей квир-детей. В 2022-м такие встречи решили сделать регулярными. Ваня смеется: его мама теперь звезда тик-тока. В популярной социальной сети больше ста тысяч раз посмотрели видео, как «мама Наташа» сходила на прайд.
«Да, Звезда «Тик-тока». Она впервые за двадцать с лишним лет жизни в Германии пошла в Дюссельдорфе на прайд. Вот как-то до этого у нее не доходили руки, хотя, ну, они уже с папой многие годы суперпринимающие родители. То есть папа мне звонит после эфира очередного и говорит: «Ваня, хорошо выступил». Мама сама уже много раз ходила и на немецкое телевидение и на радио. И тут она пошла на прайд. Я говорю: «Пап, давай». – «Ну, Вань, ты же знаешь, что у меня там спина болит, я не люблю много народу, не люблю громкую музыку». «Давай на 10 минут, а потом надоест, уйдешь». И они вышли вдвоем. Я им помог нарисовать плакатики размером А4. У мамы, был написано «I love my gay son» («люблю своего сына-гея»). А у папы я перевел на английский – Proud Papa («гордый отец»). И они пошли. Папа прошел, не знаю, полтора или два часа под все это техно. Мама прошла до самого конца, и они вернулись с горящими глазами. Говорят: «Ваня, нас постоянно фотографировали, благодарили и обнимали, а когда обнимали, то плакали и говорили: «Я бы так хотела, чтобы мои родители вышли». Я говорю: «А кто обнимал-то?». «В основном молодежь, но часто и люди уже в возрасте». А кто-то говорил, что родители умерли, так и не узнали. Я говорю: «А на каком языке?» «99 процентов на немецком». Ее это поразило, — она считала, что в Германии принимающее общество. А потом она говорит: «Я задумалась, что у этого есть обратная сторона, меня обнимают не потому, что я такая прекрасная, а потому что я для них какая-то фигура проекции. У них дефицит любви, у них нет понимания в семье, — у немцев».
Я разговариваю с Ваней Кильбером в середине 2024 года. Мы оба еще не знаем, чем и когда закончится вторжение российских войск на территорию Украины. Мы оба, живущие в Германии, не знаем, когда и чем закончится эра путинизма. Мы оба в формулировках нынешней российской законности — «экстремисты», представители не существующего «международного движения ЛГБТ». Таковы факты, что до чувств, то я ловлю себя на том, что ничего на сей счет не чувствую. А как у Вани?
«У Сальвадора Дали есть картина «Предчувствие гражданской войны». Я в детстве смотрел на нее и думал: неужели он мог предчувствовать? Когда он ее написал, до или после гражданской войны в Испании? Оказалось, «до». И она потом началась. У меня есть предчувствие большой-большой беды и чувство тоже проигрыша очень сильное.
Помнишь, я тебе говорил про выгорание с помощью беженцам? Что мы как будто стали сервисной организацией, которая все время кому-то помогает… И та встреча нам помогла понять: подождите, а кто мы-то? Мы-то здесь живем, и наши проблемы они, может быть, по сравнению с чеченскими беженцами не такие сильные, но у нас тоже есть и темы, и проблемы. И эта встреча дала нам зеркало. Провести кого-то до врача важно. Но также важно встретиться на вечеринке и увидеть друг друга, похлопать друг друга, позвать дрэг-квин прекрасную, выпить, подарить грамоту какую-то. Это спасение от синдрома спасателя, да. Потому что спасатель забывает самого себя в синдроме спасателя. А это ненормально. У тебя есть жизнь и ей надо жить и видеть друг друга и… вот».
Нужно подарить себе танго.

Ваня «ошибся дверью» в двухтысячном году. В Кельне пришел к друзьям в театральную академию, а там нечаянно заглянул в класс, где танцевали танго. Это был первый шаг, первый интерес. С того времени Ваня танцует танго. Но не простое, — а квир-танго.
В танго есть правила. Это мужское, это женское. Мужчина должен послать контакт глазами, женщина должна ответить кивком. Только тогда вы сошлись. И получилось, что мир разделен: мужская роль, женская роль. Мужчина ведет, женщина отвечает вот на это вождение. Квир-танго какое? Ты можешь посмотреть на любого человека в зале и любого пригласить. Когда мы становимся друг перед другом, я часто не знаю, какое местоимение у этого человека. Я не знаю, какую роль мы будем танцевать. Я сейчас правую руку сейчас поднимаю или левую? Правую – значит, я веду, а левую – ты ведешь. Мы выбираем и танцуем. А во время танца я могу поменяться ролями. Теперь ты меня ведешь. Вау, как неожиданно, а ты, оказывается, пассив (извините за метафору). Ты сам себе все выбираешь. Та же самая музыка, тот же самый танец, — но танец свободы. И это суперзаряжает.
Опыт квир-танго — это и опыт танца на каблуках. Он же в смысле расширительном опыт кроссдрессинга, дрэга. Ваня говорит, что специально учился стоять и двигаться на каблуках, что позднее помогало ему в квир-акциях. Для него сейчас не проблема прийти на публичную дискуссию в женском платье и, как говорит, «на каблах».
Ваня снова смеется: «Люблю дразнить гусей».
«Я уверенным себя чувствую. Я сильным себя чувствую в этот момент. В этом есть вызов. Я когда становлюсь на каблуки, что-то происходит с позвоночником. По-другому плечи расставлены. И если я иду на прайде на каблуках, то знаю, что не убегу. Я иду, у меня есть ощущение собственной силы, собственной высоты и значимости. Это не доброта, а какое-то прощение, что-то типа: «Ах, да, ты гомофоб? Мне тебя очень жаль».
"Квир-танго Вани Кильбера", слушать аудиоверсию:
«Квир-беседы». Четвертый цикл интервью с русскоговорящими ЛГБТК-мигрантами выходит при поддержке «Радио Сахаров».