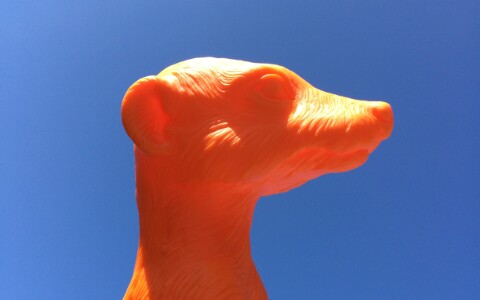Смыслы и битвы Эви Чайки
Она была в числе первых, кто после 24 февраля 2022 года начал помогать в Берлине украинским беженцам. Она была среди тех первых, кто заговорил в Германии о необходимости системной помощи российским беженцам, открыто выступающим против войны. Этот опыт стоил ей финансовой стабильности, вынудил пересмотреть отношение и к людям, и к собственному прошлому. Он же сильно изменил ее планы на будущее. Эви Чайка — основательница квир-организации Equal PostOst.

В Берлине подходящее место для разговора нашла она — Reforum Space Berlin, место встречи для русскоговорящих мигрантов-оппозиционеров. В веселом Кройцберге, на первом этаже старого дома надо пройти несколько комнат и спуститься в подвал. Там есть стулья и стол, там тихо и можно включить свет.
С любопытством оглядываясь, я подумал, что в Берлине нет, наверное, нужных для квир-человека мест, которые не знала бы моя собеседница.
Эви Чайка объясняет:
«Мы видим себя как правозащитная организация, которая помогает ЛГБТК-людям под преследованием из стран PostOst. Термин PostOst мы взяли для того, чтобы уйти от империализма и от негативного контекста Советского Союза, — мы признаем какие-то общие травмы и опыты у стран, которые прошли через это. Мы делаем гуманитарные визы в безопасные страны Европы. Мы занимаемся экстренной эвакуацией людей под преследованием. У нас есть чат-бот, где команда консультирует людей о легальных путях релокации в безопасные страны. Также у нас есть большое направление адвокации, где мы договариваемся с властями безопасных стран Европы, чтобы они предоставили гуманитарные визы, о том, чтобы проблемы людей, которые приезжают в Европу, были заметны политикам и чиновникам. Мы стараемся держать европейское гражданское общество в курсе того, что происходит в странах PostOst. Сейчас мы активно занимаемся Россией из-за высокого уровня репрессий против ЛГБТК-людей в этой стране. Но также мы работаем с Центральной Азией, Беларусью, Украиной».
Полное название обязывает ко многому: «Европейский квир-альянс PostOst-сообщества». Создан больше года назад, в апреле 2023-го. Еще одна организация, которая занимается правами людей из сообщества ЛГБТ+.
В чем ее особенности?
«Я была в Гааге на саммите Европы. Была встреча активистов и активисток при саммите Совета Европы в феврале 2023 года. Я поняла, что там совершенно не представлены ЛГБТК-активисты и активистки, которые работают с регионом в целом. Есть проекты по отдельным странам, но на европейском уровне я не заметила никого, кто бы специализировался на PostOst.
Нам очень важно, чтобы мы, как говорят мои прекрасные коллеги, «бились по смыслам». Это значит, что мы горим одним, ценности у нас похожие, и основное наше движение внутри начинается с одинаковых точек. Мы видим себя, как НКО с человеческим лицом. Казалось бы, любая НКО — это организация с человеческим лицом, но на самом деле не всегда. Очень легко бюрократизироваться, очень легко выгореть и превратить человеческие судьбы в циферки и буковки, особенно если ты взаимодействуешь с таблицами, с описанием кейсов, и людей видишь в виде текста. Когда одна история тяжелее другой, очень легко начать обесценивать. Мы много работаем над тем, чтобы видеть глаза каждого человека, который к нам обращается».
Организация зарегистрирована в Берлине, но ее сотрудники рассредоточены по всей Европе. На старте их было 13, сейчас больше 60 человек. Эви ручается, что все ее коллеги — свободные люди, — это для нее главное в определении queer.
Принимают не всех. Эви продолжает:
«У нас есть чат-бот, в котором люди подают заявки на волонтерство, и дальше проходит большая процедура верификации, отбора. У нас есть определенные протоколы, которые составлены нами, которые взяты у коллег, мы подглядели в best practice. Мы понимаем, что в создавшихся условиях мы не защищены от того, чтобы к нам пришли «подментованные». Это те люди, которые по той или иной причине сливают информацию спецслужбам в Россию, Беларусь, Узбекистан. Силовые структуры этих стран делают очень много для того, чтобы проникать в правозащитные европейские организации ради получения информации. Единственное, что мы можем делать, это пытаться снизить наши риски, видеть глаза каждого, кто к нам приходит, и всегда сомневаться. Верить и сомневаться. У нас есть разные уровни доступа. Если человек попадает в команду, это не значит, что он всё равно будет получать чувствительную информацию. Например, к кейсам людей под преследованием получают доступ единицы. Мы стараемся вырабатывать какие-то процедуры, в которых мы сделали всё, что от нас зависело, для того, чтобы люди не попали в беду».
Сколько человек получили помощь благодаря этой организации?
Эви называет цифру: «100+». Что за «плюсом» — можно лишь гадать.
Больше ста — это те, кому организация Equal PostOst точно помогла получить немецкую гуманитарную визу.
«Тут процедура очень понятная. Мы подаем документы в МИД Германии, потом они переходят в МВД, МВД сообщает МИД, МИД сообщает нам, мы сообщаем клиентам. Мы можем посчитать количество кейсов — всё понятно. Но, например, с МИДом Франции работа идет совсем по-другому. Мы передаем им список. Если возникают какие-то вопросы или проблемы, они к нам обращаются, но обычно они сами связываются с людьми, и люди дальше получают звонок из консульства, оформляют визу, выезжают. К нам приходят, если только нужна какая-то помощь — некоторые люди достаточно самостоятельны. Дальше мы посылаем им памятку, и люди пропадают. У них есть виза, они едут и живут своей жизнью, и там уже обращаются к локальным помогающим организациям, указанным в памятке».

Украинка по отцу, еврейка по матери. Два паспорта, российский и немецкий. Два вуза — в родном Санкт-Петербурге изучала public relations, а позднее в Берлине — тонкости маркетинга. Недавно исполнилось 38, из которых 20 лет живет в Германии.
Почему Эви уехала из России? Как это было?
«Мы еще были в Питере, когда мама всегда повторяла фразу: «Мой дом там, где мои дети». Решение о том, что мы уезжаем, принималось коллегиально. Не так, что я была ребенком, мне сказали, что мы уезжаем, и мы уехали. Меня спросили, я дала активное согласие».
Эви говорит, вроде, иронически, но такова правда, — она из профессорской семьи. Ученую степень имел ее дедушка по маме, а бабушка была главврачом питерского роддома. Впрочем, назвать Эви барышней из советских элит было бы преувеличением. Ее мама, дипломированный инженер, вышла замуж за украинца из «понаехавших».
«Мама и папа работали в одной области, инженерной — папа на железной дороге, мама с телевизионными коммуникациями. Я никогда не понимала их лексики про технические штуки. Но они всегда спорили, доставали какие-то чертежи и это обсуждали. Про папу мама часто говорила, что она не понимает, как чувак из села без высшего образования умудряется доказать ей какие-то вещи или опровергать то, что они учили в университете, и оказываться правым. Мне действительно очень повезло с родителями».
От родителей ей досталось стремление мыслить критически. Еще в годы питерского студенчества она открыто выступала против войны в Чечне — тогда первой (1994 — 1996). Спорить не боялась.
«Когда училась в Питере на PR, был какой-то экзамен, что-то очень гуманитарное и очень размазанное. Там можно было любых тем коснуться. И мы коснулись вопроса войны в Чечне. Я должна была рассказывать официальную повестку, сообщать, что Россия должна была бомбить. Я же говорила, что этот образ людей из Чечни был агрессивно навязан российскому обществу. Я говорила, что это страшное преступление, это имперское преступление. Я не знаю, как правильно, но точно знаю, что вот так — неправильно. И преподаватель выгнал меня с экзамена».
Складывается впечатление, что и сам отъезд из России был следствием их семейного умения видеть чуть дальше, понимать, что будет послезавтра. Об эмиграции начали всерьез думать уже в 2000-м, когда эпоха ельцинских свобод и надежд стала прошлым.
Были для отъезда и причины прозаически-жестокие. Нужно было спасать отца Эви, у которого диагностировали онкологическое заболевание.
«В 2000 году моя мама сказала, что ГБ-шник пришел к власти, и ничего доброго от этого ждать не приходится. В 2004 году мы уехали в Германию всей семьей. Папа был уже в очень тяжелом состоянии. Еще буквально неделя, и мы бы, наверное, его не довезли. Он был на очень серьезном морфине».
Из слов Эви можно понять, что переезд в Германию заставил ее резко повзрослеть: на всю семью разом навалилась куча проблем, многие из которых пришлось решать ей, самой младшей и, как выяснилось, самой подготовленной к жизни вне России.
«У мамы давление и больной позвоночник. Папа с тяжелым раком. У брата беременная жена. И никто из них не говорит ни на английском, ни на немецком. Я ступила на немецкую землю и стала взрослой, ответственной за всех. А что в те годы подразумевала еврейская иммиграция? Ты едешь как беженец, просто у тебя виза в паспорте есть, тебе беженство одобрили заранее. Ты приезжаешь в распределительный лагерь, проходишь всю ту процедуру, которую сейчас проходят люди по гуманитарной визе. Я очень хорошо ее знаю. Я знаю цену помощи, находясь в этих обстоятельствах. Мама помогала папе выживать. А я занималась организацией процессов и бюрократическими вопросами».
Они оказались в деревне на юге-западе Германии. Жаловаться Эви не любит, но и по сухим фактах судя, это было то еще испытание. И дело не только в материальных затруднениях. Именно в Германии Эви поняла, как выражает себя антисемитизм.
«Я ощущаю свою еврейскость всю свою жизнь, но никогда не ощущала ее так сильно, как когда мы приехали в Германию. В 2004 году на юге Германии антисемитизм так пышно пах и рос, что каждый божий день я вспоминала о том, что я еврейка. Мы переехали изначально в Баден-Вюртенберг, в небольшую деревню. Лагеря для евреев и для немцев были разные. У немцев были кирпичные здания, а у евреев — деревянные бараки.
Было два адреса. В один распределяли тех, кто приехал по немецкой линии. Там было тепло, это было каменное здание. И был адрес, куда распределяли всех по еврейской линии. Здание было деревянное, без тепла. Была языковая школа, где на первых партах сидели все, кто приехал по немецкой миграции, и уже знали язык, потому что в поселениях, где они жили, говорили на немецком. Все евреи сидели на задних партах. Программа была только для немцев. Не думаю, что везде так, но у нас было так. Я помню, как работник в каком-то ведомстве сказал мне, что вообще-то мы евреев не приглашали, а вы приехали.
Когда в Германии я с этим, то говорила маме: «Боже мой, как мы вообще можем! Почему мы сюда приехали?». А мама говорила, что и в России такое было: «Просто мы это обходили».
Мама понимала, что быть еврейкой тяжело. Она в своей жизни не раз сталкивалась с тем, когда это мешало жить — что-то не получалось, мешало карьерному росту и т.д. От мамы я узнала, что антисемитизм был и в моей школе в Питере — учительница пыталась убрать меня из школы, потому что я еврейка. Она была жуткой антисемиткой. Мама добилась того, чтобы меня перевели в другой класс. Мне же сказала, что так будет лучше, не объясняя».
Самое важное и самое сложное, как говорит Эви, не делать никаких поспешных обобщений. Если кто-то оказался антисемитом, то это не повод считать, что таковы все Она вспоминает первые месяцы после переезда в Германию и тот случай в общественном транспорте, когда снова была вынуждена подумать о нюансах своей «российскости».
«Я ехала вечерним S-Bahn‘ом (такой трамвайчик из одной деревни в другую), и там сидело несколько человек, которые разговаривали на русском. Они были пьяные и вели себя просто отвратительно. Рядом со мной сидела какая-то бабушка. Она посмотрела на меня (а я молчала) и сказала: «Эти русские!» И мне стало так обидно! Не в смысле, что я русская — она говорила про людей из России, про людей, которые говорят на русском языке. Я не могла ей объяснить, но мне очень хотелось бы ей сказать: «Подожди, я совсем другая». Тогда я поняла, что это ошибка, и мне ни в коем случае нельзя эту ошибку совершать по отношению к другим людям».
Сейчас Эви помогает людям профессионально, и полагает, что отчетливая потребность в этом сформировалась у нее именно в то время, когда нужно было облегчить страдания отца — он прожил в Германии всего год.
«Из-за бюрократических проволочек папу не клали в больницу. Папа без морфия, его не кладут в больницу, и у нас нет денег вообще. Мы совершенно не знали, что делать. Кто-то из соседей посоветовал на обратиться в синагогу. Мы поехали на следующее утро, там сидел человек. Мы в панике описали ему описали, что происходит, он сделал два звонка, и всё решилось. Для него это не было усилием, но он нас спас. Я поняла, что, когда я смогу сделать эти два звонка, то их обязательно сделаю. Это не про долг. Это про то, что моя религия — закон сохранения энергии. То, что я получила, если могу, я с радостью отдам, пусть оно живет дальше».

В судьбу и предназначение Эви не верит, но о встрече с Оксаной, своей будущей женой рассказывает так, что я начинаю с удовольствием думать о предопределенности. Вот встреча как волнующая неизбежность: вначале знакомство в «Живом журнале», популярной в 2000-е русскоязычной социальной сети, затем очная встреча. И даже две.
«Мы знакомились трижды. Я нашла чей-то живой журнал, и мне очень понравилось его читать. Я собиралась ехать в Питер, и как-то оказалось, что девушка из Питера. Мы списались и договорились, что надо будет обязательно встретиться. При этом, когда я уже была в Питере, зашла коротко пересечься с одной своей подругой. Она сидела с другой своей подругой, и нас представила. А потом чуть ли не в тот же вечер в клубе в темноте я познакомилась с девушкой, которой мне ужасно понравилось. Мы танцевали всю ночь, нежно целуясь. А потом оказалось, что все три случая — это одна и та же девушка — и в ЖЖ, и та подруга, и в клубе. И всё. Больше мы не расставались».
Оксана из Питера, — вернее, из «подпитерья». Занимается дизайном интерьеров. В Германии с 2008 года. Они в зарегистрированном браке, сообща воспитывают дочь. Главной добытчицей считается Эви, но бывали времена, когда семью кормила одна Оксана. Прежде могли поссориться так, что вдребезги посуда, — сейчас повзрослели, ходят к семейному психологу.
Их с Эви многолетний союз можно, пожалуй, считать доказательством этого выражения: никогда не говори «никогда».
«Когда мы познакомились, она сказала две вещи: «Я никогда не уеду из Петербурга, и у меня никогда не будет детей». Теперь она живет в Берлине с ребенком».
В нашем разговоре то и дело упоминается мама, — с ней у Эви была особая связь. И еще одна чувствительная деталь, которую стоит обозначить: на союз с Оксаной Эви получила материнское благословение:
«В какой-то момент я пришла к маме и сказала: «Мам, у меня завтра свадьба. Мама сказала: «Я надеюсь, на Оксане?» «Ну, конечно». Мама обрадовалась. Мы из ЗАГСа уехали сразу в Лиссабон на такси, там гуляли, тусовались. Праздновали там вдвоем. У меня всегда была привычка, если я откуда-то возвращалась, заезжать сначала к маме. По возвращении мы заехали к маме, и она сделала многослойный высокий тортик, а наверху стояла фигурка с двумя девочками в платьицах, которые друг друга обнимали. Мама говорила: «Боже мой, ну вот как же тебе повезло?» Она назвала Оксанку «Ухти-тухти». Оксанка всё время что-то делала. Она говорит: «Господи, какая замечательная. Всё время что-то делает, всё время помогает, заботится». А если мы ссорились, я приходила и жаловалась маме на то, что мы поссорились. мама мне говорила: «Это же всё неважно. Ты же ее любишь. Она же тебя любит».
Не слишком ли бесконфликтно звучит? Все-таки мать Эви была человеком советской формации, — из времен, когда гомосексуальность считалась изъяном. В ответ моя собеседница готова признать: безоговорочное принятие квир-ребенка было, наверное, результатом большой душевной работы.
«Я помню, что у нас был момент, когда по телевизору показывали концерт «Ночных снайперов», и как-то прозвучало, что Сурганова и Арбенина встречаются. Я маме говорю: «И что ты думаешь?» Она мне сказала: «Пусть будут счастливы, но для своей дочки я бы такого не хотела». Меня тогда это очень ранило, и я как-то отстранилась на вечер подумать. Но мне кажется, что тут вопрос не про развитость, а про любовь к своему ребенку. Когда мне было лет 15, и у меня появились какие-то первые отношения, то с моими девушками моя семья всегда вела себя очень воспитанно. Дома был теплый прием. Девушки могли оставаться на ночь. Я могла оставаться у них. Если я с кем-то плотно общалась, дружила, то на какие-то вечера или в рестораны приглашали меня с моей подругой. Когда мы приехали в Германию, мама по выходным всегда готовила обед и приглашала меня всегда с моей пассией».
Свою нынешнюю жизнь в Берлине Эви описывает в красках, на мой вкус, пасторальных, идиллических. Я и верю, и не очень, — не потому, что моя собеседница что-то скрывает, но потому, что нежеланное можно запросто считать исключением, а не правилом.
Но можно и не считать. Это как со стаканом, который и полупустой, и полуполный.
«Мой bubble абсолютно queer-friendly. Конечно, когда ночью в определенном районе идешь с женой за ручку, и навстречу идут какие-то брутальные мужчины, то может на секундочку стать страшно. Я знаю, что в Берлине происходит достаточно много преступлений на почве ненависти к квир-людям. Но меня, видимо, проносит. Я с этим не сталкивалась и очень этому рада».
Эви говорит, что никакой враждебности к квир-людям нет и в многонациональной берлинской школе их дочери. Девятилетняя девочка не только учится в одном классе с юными сирийцами и турками, но и ходит к ним домой на дни рождения. И никого не смущает, что у нее две мамы.
И снова вопрос: правило или исключение? Эви лишь пожимает плечами: может быть их дочери просто повезло.
«Когда она пошла в первый класс, пара одноклассников ее спросили, как это устроено, как это вообще работает. Она не знала, как объяснить, пришла к нам. Мы в соответствии с возрастом показали ей книжки, объяснили. Она рассказала одноклассникам, и на этом разговор был закончен. У нас с женой такая позиция: тебя может задеть легче и сильнее лишь то, что ты видишь как свою уязвимость. У нас никогда не было ощущения, что наша семья какая-то особенная. У нас обычная семья, с обычными проблемами, с обычными радостями. То, что две мамы — это естественно. И то, что у соседской девочки мама и папа — тоже абсолютно естественно. То, что у соседского мальчика мама и бабушка — тоже абсолютно естественно. Мы сами не видим в этом никакой уязвимости (спасибо этому обществу, потому что это всё-таки привилегия). Соответственно, наш ребенок в этом не видит никакой уязвимости».
Но есть, однако, одно большое «но». С некоторых пор и сама Эви, и ее жена, и их дочь живут под особой защитой немецкой полиции. У них даже имеется специальный номер телефона, куда можно позвонить в экстренном случае. Причина тому — правозащитная деятельность.
«Я иногда получаю по телефону угрозы, и мой ребенок не имеет права ходить один. В школе детям в определенном возрасте разрешают перемещаться самостоятельно. Моему ребенку это запрещено. Он перемещается только в группе. Для этого есть указание полиции. Есть дело, заведенное в связи с угрозами, и скрыты мои данные в базах. Меня невозможно найти и мою семью тоже».
Эви может лишь гадать, кто ей угрожает и что конкретно стало поводом для угроз. Важно, наверное, учитывать, где и как она поняла, что анонимы, говорящие по-русски с кавказским акцентом, настроены весьма серьезно.
Это было в ноябре 2023 года: организация Equal PostOst устроила в Берлине выставку, рассказывающую о преследованиях квир-людей на Северном Кавказе.
«В силу того, что это было открытие выставки, полиция стояла рядом со мной, когда мне звонили. И полицейские все очень быстро сделали, а теперь полиция следит за моей безопасностью, я у них на радарах».
С тех пор Эви работает только в местах, которые считает безопасными, она не размещает в соцсетях фотографии мест, где в данный момент находится, не пьет открытые кем-то напитки. Как к таким ограничениям относится ее дочь?
«Тут недавно был День матери. Мы с моей супругой получили открытку от нашей дочери. Онв написала первой маме, моей жене: «Мама, большое спасибо тебе, что ты мне замечательно помогаешь с учебой и поддерживаешь меня. Мама Эвелина, спасибо тебе за то, что ты помогаешь Украине».
С точки зрения российских законов и я, регулярно рассказывающий на русском о квир-культуре, и правозащитница Эви — «экстремисты». Мы — члены некоего «международного движения ЛГБТ», которое в стране Путина объявили «экстремистским». Но для меня эти угрозы — по-прежнему гипотетические. А как Эви живет в близости очевидного риска?
Она отвечает и в шутку, и всерьез, — в манере самоиронической.
«А тут помогает мое тревожное расстройство. Я стараюсь не разрешать себе, общаясь с людьми, думать, что может что-то случиться. Я и раньше общалась, как будто это в последний раз. Если я уделяю чему-то время или внимание, я чекаю это и понимаю, что это сейчас мое решение, мой выбор, потому что у меня есть для этого причина, и по-другому быть не может».
Диагноз, который поставили ей немецкие врачи, звучит не без пышности: «Генерализованное тревожное расстройство». На языке простом — это постоянное беспричинное чувство тревоги.
Как оно выражается?
«Если ты сидишь на море, наблюдаешь красивый закат и наслаждаешься этим, то у тебя всё в порядке. А если ты нервничаешь, и тебе нужно что-то срочно пойти, что-то предпринять, поменять позу, или «пойдемте уже в магазин сходим», то возможно, стоит обратиться к психологу».
Чувство тревоги иногда может быть сильней, иногда меньше. Кризисными для себя Эви называет время после смерти матери в 2017 году.
«В какой-то момент я поймала себя на том, что я стою на платформе в метро, и кто-то как будто меня толкает в спину. Никого не было, но я прям физически это ощущала. Я подумала, что это не ОК. У меня же дочка маленькая, да и вообще жизнь прекрасна. Я пошла к терапевту с запросом, что со мной что-то не так происходит. Меня надо вытаскивать. У меня был период, что я принимала лекарства, которые очень хорошо от этого помогали, но я вообще забила на жизнь. Мне было от них очень плохо. Я лежала пластом на кроватке полгода. Но мне было спокойно. Потом подумала, что, наверное, хватит. Сейчас я принимаю регулярно какие-то легкие таблетки, которые снижают мою тревожность. Мне комфортно так существовать».

Начало 2022-го. У Эви жена и ребенок. У нее свое дело, которое приносит более-менее стабильный доход. В Берлине она управляет сетью мастерских, ремонтирующих продукты Apple. В ее профессиональном багаже — опыт работы бизнес-аналитиком и возможность, если понадобится, найти дополнительные источники заработка. Во внерабочее время — труды активистские, волонтерские.
Все меняется в одночасье: 24 февраля 2022 года российские войска вторгаются на территорию Украины.
«Мне кажется, что я испытывала такое чувство горя прежде только, когда умерла мама. Меня это очень напугало. Да гибнут люди, да, их много, да, это ужасно, несправедливо, твоя страна на них напала. Но как это можно сравнивать со смертью мамы? Как это можно чувствовать похожим образом? Всё же равно это очень разное! А потом я поняла, что, наверное, для меня умерла моя страна. Это смерть страны и смерть всего, во что я верила. Я поняла, что мир больше не будет прежним. Я потеряла свой мир».
Эви вспоминает, что в те месяцы 2022 года фактически жила в офисе, — тогда она была членом правления Quarteera, известной в Германии организации, объединяющей русскоговорящих квир-людей. О собственных бизнес-планах ей пришлось забыть:
«Я сидела на телефоне, и мне звонили люди, которые ехали из Украины, их нужно было куда-то поселить, и было уже очень поздно. А тут мне нужно было ехать разбираться с чем-то по своему бизнесу. Я не поехала раз, я не поехала два. Я очень серьезно с собой поговорила, как взрослый, ответственный человек, у которого есть семья и обязательства. Я поняла, как сохраню свое эмоциональное здоровье, что для меня сейчас действительно важнее и лучше».
Сколько во мне Украины, какая она? Этот вопрос тогда задавали себе многие.
Эви, россиянка по паспорту, украинка по отцу, утверждает, что разницу между странами ощутила гораздо раньше, — не позднее 2018 года, когда приехала в гости в Киев и пошла на выступление «Океана Эльзы», известных украинских рок-музыкантов:
«Тогда на Олимпийском стадионе в Киеве я никогда, мне кажется, не видела столько людей, которые поглощены одним добрым порывом. Никогда я в России его не ощущала. Может быть, я что-то очень сильно пропустила, но у меня такого опыта не было. Я помню «День города» в Питере. Приезжаешь на Дворцовую площадь, и в этом было очень много агрессивного. Люди, которые праздновали, быстро становились агрессивными. Толпа. Не было такого гордого единения, как в Киеве».
События 2022 года я вспоминаю так, будто видел их во сне, — все слишком дико, чересчур похоже на какую-то сочиненную реальность. Для Эви, помогавшей тогда беженцам в режиме 24/7, образ времени спрессовался в одну уличную сцену.
«Я стояла, курила. Это было, мне кажется, на третью неделю после полномасштабного вторжения. Приехало много людей из Украины, я разгружала грузовик с продуктами. На улице было уже достаточно тепло, первые весенние теплые дни в Берлине. Я была запыхавшаяся, уставшая, вспотевшая, — стояла, курила. Люди, которые приехали, подошли покурить вместе со мной. Там были разные персоны. Они делились впечатлениями, кто как добрался, кто откуда. Меня тогда поразило, как обыденно люди рассказывают дико страшные вещи: «Представляешь? Иду с собакой гуляю, а там начинается сирена. А я по телефону разговариваю и думаю, Господи, опять не поговорить нормально по телефону. Сирена орет, ничего не слышно». И вроде это не описание оторванных рук и ног, но становилось так страшно от этих рассказов, от этой обыденности. А когда очередь дошла до меня, я сказала, что из Питера. И тут люди автоматически сделали шаг назад. Все дернулись назад. Они были совершенно в этом не виноваты. Это было естественное эмоциональное желание. Потом они такие: «Ой, блин, прости. Извини, мы не имели это в виду». Но я всё понимаю, они ни в чем не виноваты».
Эви говорит, что в ситуации экстремальной не замирает, а наоборот, начинает с удвоенной силой действовать. Как она вспоминает, вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину стало ясно, что помощь беженцам — многосоставная задача, тут требуется системная политическая поддержка.
«У меня в команде была девушка, которая жила в России и очень круто работала. Я понимала, что она под рисками. Выходя из дома, например, она должна удалять все приложения, чтобы быть в безопасности, а потом, приходя домой, ставить их заново, чтобы работать. Работала она по ночам. Это, конечно же, ужас. У нее были дети, жена, и надо было что-то делать. Так как она была под моим руководством, это была моя личная ответственность. И вот был какой-то Stadtfest, городской праздник, где я встречаю кого-то, кто говорит, что депутат или сенаторка. Я начинаю спрашивать: «А у вас нет идеи? Вот такая вот судьба, такая история. Что мне с этим человеком делать?». Мне отвечают: «Я не знаю, но ты можешь спросить такого-то». «Это интересно. Давайте встретимся и попьем кофе, я вам всё расскажу». «А давай». И вот мы пьем кофе, я рассказываю. И люди такие: «А я не знал, что вообще такое ужасное происходит. А давайте подумаем».
У меня был однажды случай, что я сидела на круглом столе в МИДе — обсуждались процедуры гуманитарных виз. Там была представительница МВД, достаточно серьезная начальница. Когда мне дали слово, я сказала: «У меня вот такой топик. Трансчеловек живет в деревне на 5000 человек, где нет доступа к медицине. Соседи ужасно моббят, и мы вообще не понимаем, что с этим делать». Я подробно рассказала про то, как устроен день у трансперсоны, и что этому человеку 22 года, и вся жизнь впереди была бы, но это просто ломает, и никакой надежды на интеграцию, и что в принципе, этот человек мог бы быть полезен гражданскому обществу в Германии. После этого ко мне подошла начальница из МВД и сказала, что поможет. И за неделю человека перераспределили в Берлин. Это был одни из последних кейсов, когда можно было перераспределиться в Берлин. Оно всегда так закручивается, когда есть личные истории. Я всегда хожу с чьей-нибудь проблемой, с целой палитрой разных проблем в кармашке. Когда я вижу, что вот эта компания сейчас имеет такой-то ресурс и может решить проблему конкретного человека, то я достаю ее и рассказываю».
Прежде ее любимым берлинским районом был Кройцберг, сейчас она все больше очаровывается правительственным кварталом Берлина. Эви знает, кто где заседает в бундестаге. Она в курсе, в какой кабинет в парламенте заходить стоит, а какого крыла лучше избегать.
«В бундестаге сидят абсолютно обычные люди, такие же, как и за стенами бундестага. Есть люди, которые совершенно не готовы кого-то защищать. Есть люди, у которых «патриархат мозга», квирфобия и трансфобия. Я однажды бродила по коридорам Бундестага, забрела нечаянно в часть AfD и испуганно оттуда убежала. Ни за что! Никакого диалога с ними. Я не верю, что эти люди во что-то верят, а у меня есть правило: я заканчиваю разговор, если человек нечестно заявляет о своих намерениях. Как только человек говорит одно, подразумевает другое, я не вижу смысла разговаривать».
Было бы, наверное, логично, если бы она сама пошла в политику. «Почему бы и нет? — вслух рассуждаю я, — Делать мир лучше в составе партии с близкой тебе программой, вместе с этически близкими тебе людьми?». Эви признает — такие предложения действительно были.
«Я всегда отказывалась. Там замечательные зарплаты, офигенные условия и очень интересная работа. Но тогда я не смогу быть активистом, правозащитником. Мне кажется, у меня хорошо получается то, что я делаю. Я бы не хотела, чтобы сегодня мир лишился того, что я делаю. Мне кажется, что сегодня я на своем месте. Может быть, когда-нибудь потом это изменится. Я думаю, что никогда не говори «никогда». На данный момент мне кажется, что я, будучи независимой, больше могу сделать. Если я займусь политикой, то стану более системной и буду принадлежать какой-то партии. Я должна буду отстаивать ценности этой партии, и у меня будет меньше ресурсов на то, чтобы отстаивать свое комьюнити».
Если оценивать с точки зрения практической, решение не самое разумное: отказываться стабильности в пользу квир-активизма. Я знаю его бытовую цену: денег вечно мало, хлопот невпроворот.
Как это в случае Эви?
О трудностях житейских она говорит неохотно, но я все же настаиваю.
«Самое ужасное было, когда отключили газ, когда было очень холодно зимой. Это было прям тяжко. Это продлилось неделю-три. Разобрались. Дошло до того, что у меня забрали машину за долги и в какой-то момент отключили дома электричество. Тогда я поняла, что надо что-то с этим делать. Я нашла какие-то грантики ненадолго, какую-то стипендию правозащитную на три месяца. Я делаю какие-то проекты, я провожу какие-то страт-сессии, делаю какие-то семинары, выступаю. За выступления мне даже платят иногда. Как-то оно иногда срастается. Просто сейчас нестабильно, но стало лучше, чем было до этого. Когда становится совсем плохо, я мобилизируюсь, чтобы сейчас добыть денег, добываю их, у нас снова включают электричество, включают газ, я снова отвлекаюсь от темы денег. Нас немного штормит. Сейчас стало лучше, но еще штормит».

Каждый день решать чужие проблемы. Каждый день сталкиваться с людскими страданиями. Каждый день быть и менеджером чужой судьбы, и гидом по чужой стране, и дипломатом, политиком, психологом. Чем больше я узнаю о буднях квир-активистов, тем отчетливей понимаю, что сам не смог бы выдержать такой режим — приходится впускать в свою жизнь очень много боли. Чему Эви научилась, помогая беженцам?
«А научилась я вот чему. Люди в эмоциях забывают, что другие люди — это не веселые зверушки. Было очень много ситуаций, когда, желая помочь, люди предоставляли свои дома, объятия, ресурсы, рисуя для себя какую-то картинку пострадавшего, какой он хороший (там огромный список). А почему, с чего вы вдруг решили? Человек не должен быть воспитанным, он не должен хорошо пахнуть, не должен не быть травмированным. Он после взрывов приехал, у него убило несколько людей на глазах. Мы не знаем, как психика будет сейчас реагировать. Всё, что мы пририсовываем, — всегда ошибка. Задача тех, кто помогает — не ожидать никакой благодарности, никакого определенного портрета».
В последний раз в России Эви была в 2013 году. Вопрос открытый: когда ей доведется показать любимый Санкт-Петербург дочери, которая никогда на родине мамы не была.
На вопрос «скучает ли по Питеру?» Эви отвечает быстро, утвердительно.
«Недавно снилась крыша у дома за Казанским собором. Я там на гитаре любила играть. Мама у меня родилась и выросла на Площади Восстания. Она мне так трепетно передала любовь к этим местам, что я себя очень ассоциирую с ними и всегда стремилась туда».
Эви лишь относительно недавно начала чувствовать себя в Берлине, как дома. И это при том, что в этом городе она живет уже 15 лет. Не исключено, однако, что и Берлин окажется только одной из остановок в ее жизни.
Я прошу представить желаемое будущее, — и она говорит о том, как важна ей близость к океану.
«Путешествуя по разным городам, я заметила для себя, что есть города, у которых есть свой очень сильный вайб. Когда ты приезжаешь, не ты решаешь, что ты делаешь и как, а у города есть определенный заряд, и ты будешь действовать в рамках этого заряда. Я приезжала в Питер и так или иначе всегда оказывалась в каком-то дворике, в какой-то «парадке», пишущая стихи и совершенно не понимающая, какие у меня планы на завтра. Мне было хорошо в этом, и мне казалось, что я в Питере по-другому существовать не могу. Ассоциативно это может быть не очень понятно, я для себя замещаю Питер океаном. Когда я езжу к океану, я впитываю какую-то энергию, которая у меня ассоциативно ощущается в той же вибрации, которую я получала в Питере».
Konstantin Kropotkin
Queerbesedy Evi 43.mp3
0:00
45:43
«Квир-беседы», четвертый цикл интервью с русскоговорящими квир-мигрантами в Германии выходит при содействии «Радио Сахаров».