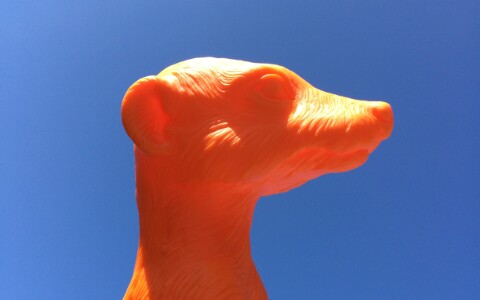"Эйзен" и "Светотень". Бурда и еда.
Два режиссера-гения и два романа. Чем плох «Эйзен» и чем хороша «Светотень».
Весной 2025 года вдруг зарифмовались две книги. Как логлайн их можно описать одними и теми же словами. С одной стороны - советский гений Сергей Эйзенштейн стал поводом для «Эйзена», нового романа Гузели Яхиной, вышедшего в Москве. А вот - жизнь Георга Вильгельма Пабста, гения немецкого, которая беллетризирована Даниэлем Кельманом в 2023-м, два года спустя книга вышла в русскоязычном издательстве Fresh Verlag под названием «Светотень». И в том случае, и в другом, чтение не только увлекательное, но и полезное, подстегивающее интерес к кумирам давно ушедших эпох, неожиданно резонирующих с нашим временем.
Далее - пылкое, субъективное, поэтому лучше уведите свои нежные чувства от своих экранов.
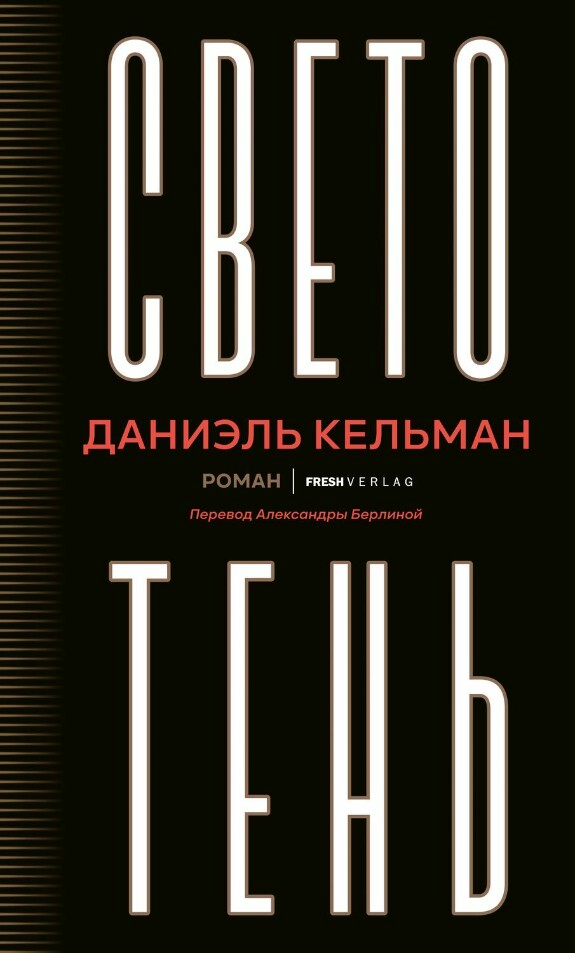
И вот сижу и с большим удовольствием думаю о "Светотени" Даниэля Кельмана, — романе о немецком режиссере Георге Вильгельме Пабсте, который с пугающей точностью описывает и нынешнее время, - и современных беглецов, и актуальных оставшихся.
Это роман-биография одного гения, который сделал себе имя в немецком кинематографе 1920х, попробовал счастья в Голливуде, вернулся, снимал фильмы при Гитлере, настаивал, что искусство больше и важнее политики, и никого не убедив, умер после войны в своей постели, - на краю жизни изготавливал фильмы на чистом профессионализме или откровенно плохо.
Роман горячо рекомендую (спасибо за прекрасный перевод Александре Берлиной), он выглядит сочинением даже выдающимся, изумительным, шедевральным (далее любой синоним), если читать его встык с недавним расхваленным русскоязычными критиками "Эйзеном", в котором беллетристка Гузель Яхина описывает судьбу Сергея Эйзенштейна, - во многих чертах схожую, но с блеском заметно меньшим.
Скажу даже больше. Сравнение двух текстов ясно показывает разницу между трудолюбивой посредственностью и литературным даром. Там, где у Кельмана трехмерные, живые герои, каждый со своим голосом, с собственной неподражаемой интонацией - у Яхиной анекдот за анекдотом, каждый из которых не столько перепридуман на личной творческой кухне, сколько попросту взбит, преувеличен за счет невротических выкриков.
И тот, и другая все время меняют перспективу, описывая главного персонажа через отражения, через восприятие стороннее. И тот, и другая, будучи в заложниках романа-биографии с набором сюжетных поворотов, определенным самой судьбой, реконструируют ход мысли режиссеров с помощью их фирменных режиссёрских ходов, - логично, что и сочиненный Эйзенштейн, и сочиненный Пабст думают так же, как сделаны их фильмы.
Есть и другие сближения, - временами такого сорта, что приходится вспоминать, что роман Кельмана вышел на немецком в 2023-м, а Яхина хорошо владеет немецким. Например, синонимичны сцены, в которых главный герой с чувствами сложными смотрит на более талантливое творение своего коллеги: Эйзенштейн - на фильм Дзиги Вертова, Пабст - на фильм Фрица Ланга.
Нет, о плагиате и речи быть не может, — слишком велика разница между двумя этими книгами. В таких случаях люблю вспоминать сказку о царевне-лягушке, ту сцену пира: одна станцевала — и полетели из рукавов белы-лебеди, другая задрыгалась - и понеслись в людей курьи кости.
Можно и такое сравнение: два повара получают одинаковый набор ингредиентов, и у одного получается блюдо столовское, а у другого - "высокая кухня".
И, в общем, хрен с ней, с писаниной Яхиной, которая ценна в первую очередь тем, что суммирует и общие, и малоизвестные места из жизни давным-давно умершего гения. С азартом, с жаром думаю о придумках Кельмана, блестящего романиста, который уже в первых главах преподает урок великолепного субъективного письма: вот его Пабст, едва владеющий английским, пытается договориться о съемках фильма с голливудскими продюсерами, - и то, как он слышит чужую речь, точно описывает, каким образом чужак воспринимает окружающее: "Снова возник слуга, наклонился вперед и спросил все с той же сверкающей улыбкой, не принести ли еще что-нибудь. Нет, мы хорошие, сказал Боб".
Литературная планка высока, Кельман даже в слабостях хорош, — он, например, очень увлекается своим героем и ищет ему оправдания. Главный вопрос романа: правда ли, что великий Пабст в конце Второй Мировой снимал фильм, где в качестве статистов были заключенные концлагерей? Ответ Кельман дает уклончивый, сбивая предполагаемую реальность в предполагаемый же морок, — эта растушевка, этот побег показывает и смятенное состояние героя, буквально вынуждая читателя ему сочувствовать. Пабста жаль, в величии его сомневаться тоже не приходится.
Яхина оправданий своему герою не ищет (и не должна), но все время подчеркивая фальцет, излишнюю полноту, нескладность невысокой фигуры, начисто лишает читателя каких-либо мотивировок: ее «Эйзен», не столько живет, сколько совершает действия, визжит и дергается, говорит и рисует похабщину, любуется мужчинами и любезничает с женщинами, любит демонстрировать жестокое в кино, а всю эту дичь романистка готова объяснить токсичными отношениями с матерью, которая умела притворяться, а на деле была та еще дрянь. Читая такое, становится понятней негодование Набокова, готового по любому случаю пинать вульгарный фрейдизм, — мама гения советского кино надоедает быстро, а страниц романа не покидает едва ли не до самого конца.
И вот еще разница между бурдой и едой, между "респектабельностью" актуальной русской литературы и виртуозным изяществом современной иностранной словесности. У Яхиной время, в которое жил Эйзенштейн, либо прилежно выписано из википедии (из интервью, книги, статьи, - торчат, короче, хвосты и уши чужого), либо выглядит неудовлетворительной кашей, в разливанном море которой торчит "Эйзен" - не то утесом, не то кривым зубом. У Кельмана только время и есть, оно лепит героя, оно его уродует, - меж героев с именами и биографиями подлинных личностей действуют герои вымышленные, но и они нужны для того, чтобы обозначить типическое, ряды и множества таких людей, говоривших таким образом, схожим образом живших и кончившихся.
Можно вообразить, что на русском вообще не умеют писать беллетризированных биографий, а если пишут, то им вечно что-то мешает, - то цензура, то нищета. Но это неправда: написала ж Майя Туровская еще в 1960-е годы великолепную биографию Марии Бабановой, не устаревшую и по сию пору.
Ответ простой: надо талант иметь, одного трудолюбия мало.
«Светотень» же и с умом дружна, с иронией на короткой ноге, с полифонией в самых дружественных отношениях: какой непридуманно кэмповый, смешной, символичный и емкий получился у Кельмана разговор вечной хулиганки Луизы Брукс с безнадежно влюбленным в нее Пабстом; как устрашающе выписана индрокринация нацизмом на примере Якоба, сына Пабста, который учится выживать среди мальчишек, идет в гитлерюгенд, а далее на Восточный фронт; как неуместно изящен британский острослов меж нацистских тяжеловесов; как ужасен хаусмайстер, подлинный хозяин этой подлой и злобной жизни в "традиционных ценностях".
Кельман развлекает так, как бывает редко: с ловкими переменами интонаций, со сложностями, которые не утомляют, с чувством времени, которое одновременно и достоверно минувшее, и абсолютно нынешнее, про нас с вами. Он пишет с точностью, от которой местами мурашки по коже. Вот откуда, спрашивается, у автора, опыта вынужденной миграции не имеющего, такое:
"Все трое осматривались с отсутствующим взглядом беженцев, привыкших ощущать себя не вполне там, где находятся, видеть в окружающем мире плохо сколоченные декорации, которые нет смысла запоминать".
Сколько таких людей я видел в последние годы? Уж точно не десятки. Как при чтении романа Яхиной рука устанет рисовать вопросы - зачем? почему? разве? какого лешего? - так при чтении романа Кельмана все время борешься с желанием выписать формулировки невыносимо, болезненно современные. И следом мысль, что все тоталитаризмы, в общем, на одно лицо, как и личные выборы — если не тождественны, то ужасно-ужасно-ужасно похожи.
«На развилке они снова обещают друг другу ничего не говорить. Конечно, ябед среди них нет, все будут немы как могила! Удивительно, думает Якоб, можно сделать любую подлость, а потом потребовать рыцарского поведения — и все, ты в безопасности».
«Прохожие останавливались, вздымали правую руку, и Пабст, чтобы не выделяться, делал то же самое — лишь на секунду, плечо дергалось, он чувствовал себя оскверненным до глубины души».
«…высокие, стройные, здоровые, и глаза у них такие пустые, совершенно ничего не выражающие. Подкрадывается чувство зависти. Полная свобода от мыслей, плюс здоровье, плюс сила. Как это должно быть прекрасно».
«Рецензий? Вредоносная дрянь! Никому не нужный еврейский жанр. Мы прекрасно заменили его описанием».
«Все наши фильмы продюсирует министерство, а значит, все они просто изумительны! — Он повернулся к описателю искусства, и оба они засмеялись отрывистым немецким смехом, один радостно, другой несколько вымученно».
«Не так уж и страшно, заверил первый голос, читается быстро, час посиделок проходит еще быстрее. Если жить в аду, нужна взаимопомощь, нужны друзья».
«Лучше всего, — Штельцнер нагнулся и подал ей салфетку, — было бы, конечно, лежать в гробу. Не видеть всего этого. Но выбирать не приходится. Не у каждого хватит смелости умереть. У меня — не хватает».
«Настал один из тех моментов, когда кажется, что настоящее исчерпано и осталось только угрожающее будущее».
Так прошлое получается про «сейчас», а следом и про «всегда». В одной из заключительных сцен пожилой Пабст рассматривает с женой наскальные рисунки, сделанные древними людьми, а там какое-то «жестокое и злое создание, которое люди пытаются умилостивить дарами».
Выразителю его, злобному хаусмайстеру, Даниэль Кельман дает дикую фамилию «Йержабек», в русском переводе нечаянно соединяя ржавчину с жабой, — и получается, что немцы научились держать своего тупоумного майстера, радетеля «традиционных ценностей» там, где ему место, в цивилизационных оковах, в постоянном «нельзя», даже если очень хочется, в России же, — да и не только там, — эти йержабеки исполняют вовсю свой адский танец, как в «Парацельсе», который Пабст снял при нацистах, «когда пляшешь, будто черт в тебя вселился. Вначале люди просто смотрят, а потом сами пускаются в пляс. Не могут иначе».
русская проза
немецкая проза
кино
нацизм и путинизм