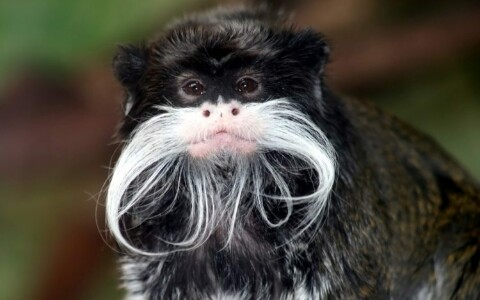Как проходил процесс инквизиции?
В качестве "пролога" к грядущей статье о гонениях в Античности, рекомендую прочитать мою старую, но добрую, статью об инквизиции.
Не секрет, что для многих людей слово “инквизиция” ассоциируется со страхом, пытками и казнями; темными подземельями, где мрачные мужчины в рясах допрашивают свисающих с потолка инакомыслящих еретиков и девушек. Разумеется это всё популярные образы, которые лишь очень отдаленно похожи на реальную историческую инквизицию — организацию профессиональных церковных юристов, которые мало интересовались глупостями, вроде деревенских “ведьм” (и даже боролись с подобными крестьянскими суевериями, например, в Испании), зато были вовлечены в важнейшие религиозно-политические события своего времени.
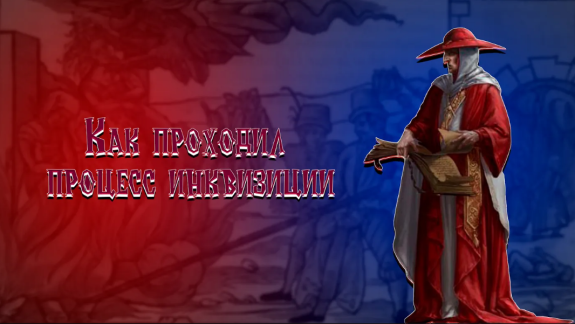
Понять феномен инквизиции невозможно без анализа исторического бэкграунда и контекста. Да, инквизиция занималась расследованием дел, связанных с ересями, богохульством и ведовством (а также с детоубийствами). Но проблема заключается в том, что в той или иной форме законы, в уголовном порядке преследующие ереси и “колдовство” (или всё, что связано с тайными ритуалами и культами, непонятными господствующей религии и поддерживающему её государству) существовали задолго до XIII века, когда появилась инквизиция, и существовали на уровне светского, а не церковного (или религиозного), законодательства. Они были еще в языческом Риме (например законы против друидов в I веке до Р.Х. и преследования культа Диониса, а также гонения на христиан за отказ признавать императора богом), в среде иудеев (ветхозаветные законы очень строго относились к отходу от веры в Бога и языческим девиациям, а уже в I веке от Р.Х. иудеи преследовали христиан — первый мученик христианства Стефан погиб от рук иудеев, забитый камнями), в древнем Египте (борьба Эхнатона со жречеством бога Амона и наоборот, борьба последних против жречества Атона), в Персии (преследования дэвов и христиан), в государстве Селевкидов при Антиохе IV Епифане, проводившем насильственную эллинизацию населения и т.д.
После того, как христианство стало основной религией Римской империи, Кодексом Феодосия ересь была приравнена к тяжкому преступлению, за которое полагалось суровое наказание, вплоть до смертной казни. Законодательство Юстиниана сохранило такое положение дел. Но применялись эти законы в отношении гетеродоксов крайне редко, поскольку встретили противодействие со стороны римских пап и авторитетных богословов: Сириция, Гелазия I, Амвросия Медиоланского, Мартина Турского и т.д. Аврелий Августин вначале выступал против силового воздействия к еретикам, но после погромов, устроенных еретиками-донатистами в Северной Африке счёл допустимым к ним применение силы, исключая пытки и смертную казнь.
В восточной части Империи со стороны императорской власти, начиная с VI века, преследования происходили постоянно — и что характерно, преследовалось ортодоксальное христианство. Например ариане, находясь у власти, ссылали ортодоксальных епископов, лишали их постов и приходов (после их поражения на Никейском соборе они сами стали жертвами аналогичных ссылок). Жестокие преследования претерпевали христиане, не принявшие императорский эдикт “Генотикон”, принятый для объединения ортодоксов и монофизитов. За это сопротивление были казнены монахи монастыря св. Дия, был арестован папа Вигилий. В эпоху принятия в качестве государственного учения монофелитства (VII век), ортодоксы снова стали преследоваться властью. Был арестован и замучен папа Мартин I, а его единомышленнику Максиму Исповеднику с его двумя помощниками отрезали язык и отсекли правую руку. Наиболее масштабные гонения на ортодоксов были приняты государством в эпоху иконоборчества (VIII век). Верные иконопочитанию монахи бежали в Рим, патриарх Константин II был подвергнут пыткам и казнён. За ортодоксальные взгляды в это время можно было лишиться глаз, носа, языка и даже бороды и лица. В 848 году византийское государство как с судом, так и без суда и следствия казнило приверженцев павликианства (число жертв приводится разное, от 10 до 100 тысяч), а в 1110 и 1143 годы были проведены кровавые кампании против богомилов. Их ересиарх Василий был публично сожжён в Константинополе в 1111 году. Византийское государство, при этом, действовало точно так же, как и языческая Римская империя, которая преследовала в свое время друидов, христиан, иудеев, манихеев и дионисийцев.
Ирония во всей этой истории заключается в том, что именно Церковь к подобным преследованиям относилась отрицательно и именно инквизиция прекратила такие преследования без суда и следствия. Во-первых, она сама от них сильно страдала. Во-вторых, долгое время в Западной Европе ересь вообще не рассматривалась как уголовное преступление и в рамках церковного наказания за неё получали епитимию сроком на 12 лет, как за грех тщеславия. Ересь стала постепенно криминализироваться в эпоху, когда основные “варварские” королевства сложились в более-менее отчетливые государственные формы и короли стали постепенно вводить законы за ересь, чародейство и богохульство, в которых видели угрозу сплоченности общества, смуты и т.д. Не только короли, но и стихийные выступления народа, напуганного неурожаем, приводили к преследованиям людей за какое-нибудь “колдовство”. На фоне этих событий голос разума раздавался именно от церковников. Например от богослова Герхоха Райхерсбергского и епископа Вазо Льежского. Бернард Клервоский писал, что еретиков “следует улавливать с помощью аргументов, а не оружия”. Итогом церковной реакции на проблему богохульства, ереси и чародейства стало создание инквизиции в 1252 году. Именно благодаря институту инквизиции эта проблема, существовавшая тысячелетиями, была частично вырвана из рук королей и императоров и передана в руки образованных юристов и богословов, которые стали рассматривать каждый случай в рамках объективного следствия. Иными словами, вместо судов Линча люди получили независимый суд. Для независимости инквизиторов от местных властей их набирали из францисканского и доминиканского орденов, подчиненных непосредственно Святому Престолу. Разумеется, впоследствии полной независимости удержать не удалось, в частности в Испании инквизиторы были достаточно тесно связаны с короной. Тем не менее, благодаря деятельности инквизиторов была спасена не одна жизнь, особенно если дело касалось обвинений в ведовстве.
Важный момент здесь, который нельзя игнорировать — инквизиция расследовала дела, связанные только с католиками. Это значит, что иудеи, например, не попадали под её юрисдикцию. Хотя чаще всего инквизиционные процессы ассоциируют с ведьмами, в действительности инквизиторы работали, прежде всего, с людьми, которые были достаточно авторитетны и известны, чтобы своими взглядами подорвать хрупкий социальный мир Позднего Средневековья и раннего Нового времени. Например пантеисты, вроде Бруно; ученые с политическими знакомствами, вроде Галилея. Куда важнее, впрочем, была деятельность инквизиторов по подавлению религиозно-политического движения катаров в XIII веке и протестантов в XVI веке. То, что инквизиторы в своей деятельности оставались юристами, а не являлись палачами и садистами, как их рисовала Эпоха Просвещения и “Чёрная легенда”, демонстрирует судьба Райнерия Саккони — бывшего катара, который вернулся в католичество и сам стал инквизитором, а также оставил нам сведения о катарах.
Поскольку ложный тезис о садизме инквизиторов весьма популярен, в данной статье мы разберем инквизиционный процесс, рассмотрев его поэтапно. После чего станет понятно, что для того, чтобы человека, попавшего в руки инквизиторов, передали светским властям для смертной казни (инквизиторы, вопреки домыслам, не занимались казнями), нужно было очень “постараться”.
Допустим, человек попадал в руки инквизиционного трибунала. Трибунал состоял из двух инквизиторов, местного епископа (или его представителя), 12 человек, известных своим добропорядочным поведением, двух нотариев, нескольких врачей и гонцов, а с XIV века и квалификаторов, т.е. светских юристов, следивших за соответствием приговоров законодательству данной страны. Инквизитором мог стать человек не младше 40 лет, имеющий благочестивую репутацию, богословское и юридическое образование. Чтобы попасть под трибунал, на человека должен был кто-то донести. Презумпции невиновности в современном понимании у него не было. Однако не было и ничего подобного суду “троек”. Процедура судебного разбирательства инквизиторов была очень емким процессом, включавшим в себя тщательное исследование мотивов подсудимого, поиск причин, по которым он отошел от веры и впал в ересь. Это было важно, так как мотивы и причины имели значение для судьбы обвиняемого, могли стать смягчающими обстоятельствами. По всей видимости, инквизиторы разбирались с психологией человека, пытались заглянуть ему прямо в душу, испытать его. Основная цель инквизиционного процесса — не казнь и даже не наказание, а вызвать раскаяние человека, вернуть его к христианской вере. Для этого процедура инквизиции открывалась с объявления времени милосердия (tempus gratiae), периода от 15 до 40 дней, в течение которого подсудимый мог добровольно признать свои ошибки. После чего он получал епитимию и свободу.
Процесс проходил тайно, судебное разбирательство не было достоянием общественности, не раскрывалось и имя доносчиков. Нюансы такой секретности заключались в следующем: не допустить мести, не допустить популяризации ереси и не навредить репутации обвиняемого, если он окажется невиновным или раскается. Более того, не стоит думать, что инквизиторы слепо верили любому доносу, лишь бы попытать как можно больше людей — обвиняемому предлагалось назвать своих врагов и указать, по какой причине они могли бы донести на него инквизиторам. Личные враги обвиняемого могли затем быть исключены из списка свидетелей. Уже на этом этапе все могло закончится — если в ходе расследования выяснялось, что донос не что иное как лжесвидетельство, то доносчик заменял обвиняемого. Таким образом доносительство всегда было риском, особенно для тех, кто хотел оклеветать своего врага, т.е. доносы не поощрялись как меры для увеличения числа обвиняемых. Несмотря на секретность тех или иных процессов, сами руководства о том, как их вести, были открытыми. В частности, таким был Tractatus de haeresi Просперо Фариначчи. Замечу мельком, что знаменитый “Молот ведьм” не был авторитетным руководством для ведовских процессов — напротив, его автора Генриха Инститориуса (Крамера) инквизиторы осудили за те методы, которые он предлагал в книге.
Обвиняемому не сообщали, в чем именно его обвиняют. На первой стадии допроса его спрашивали, известно ли ему или догадывается ли он, по какой причине его привлекли к суду. Если ответ был “да” — то подсудимому предлагали назвать причины; тогда же он мог сразу признаться в преступлении и рассказать все подробности последнего. Если “нет” — то в ходе допроса ему постепенно давали понять, в чем он обвиняется. В случае, если понимание все равно не пришло — то виновнику сообщали сведения, которые под присягой дали свидетели. Далее, если обвиняемый продолжал настаивать на своей невиновности, ему в последний раз предлагали сказать правду. Если следовал отказ — это фиксировалось в протоколе и первый допрос заканчивался. После чего могло быть несколько вариантов: либо основания считать донос (если он был) ложью были , либо же, если нет, то допрос продолжался на следующем заседании, где обвиняемому снова предлагали сказать правду.
Здесь большое значение имели доказательства невиновности, которые обвиняемый мог предоставить инквизиторам. К таковым могла относиться непротиворечивая апология, в которой честность человека не могла быть поставлена под сомнение противоречиями и нестыковками. Инквизиторам было важно либо признание обвиняемым своей вины и раскаяние (отречение от ереси), если человек виновен; либо доказательство его невиновности, особенно если он упорно отрицает обвинения. И тут мы подходим к тому, о чем антиклерикальная пропаганда любит говорить больше всего — пыткам. Однако это, на самом деле, самый скучный этап процесса, поскольку на нём, как правило, ничего не происходило, кроме вербальных угроз.
Допрос под пыткой (in tortura) назывался “строгим испытанием” (examen rigorosum). Он был узаконен папой римским Иннокентием IV для расследования laesae maiestatis divinae в 1252 году, а формально отменен в 1819 году. При этом, услышав слова “допрос под пыткой”, многие уже представляют, как инквизитор истязает на колесе несчастного Джордано Бруно. Однако это ложная картина, о чем речь далее.
Допрос под пыткой имел три разновидости:
-sopra il fatto —устанавливал факт преступного деяния и добивался признания вины.
-pro ulteriori veritate et super intentione — устанавливал окончательную истину и намерения.
-sopra l’intentione solamente — устанавливал только намерения. Применялся в том случае, если обвиняемый признавал вину, но не считал, что ошибался в вере (mala credenza).
Далее действовала следующая схема:
Обвиняемого спрашивали, не хочет ли он сделать какое-либо заявление касательно своего дела. Если обвиняемый отвечал “нет”, то судья спрашивал, были ли со стороны подсудимого еретические суждения или поступки, в которых его обвиняют. Если ответ был “да” — следовало выяснение, разделяет ли обвиняемый ложную веру, которую ему приписывают. Если следовало признание вины, то допрос заканчивался. Если обвиняемый продолжал отрицать свою вину, то следовала устная угроза пытки — verbalis perterrefactio. Она тоже имела два этапа: сначала в завуалированной форме, затем уже, если никакого эффекта не было, в прямой (comminatio realis).Если не помогала verbalis perterrefactio, то инквизитор переходил к territio realis или vexatio. Обвиняемого просили проследовать в камеру пыток и демонстрировали ему орудия, могли связать, припугнуть, но еще не пытали. Если не помогал vexatio, следовала настоящая пытка. Вопреки домыслам, она использовалась крайне редко, и не только в Италии, Германии или Франции, но и в Испании, где, по стереотипному мнению, инквизиция была самая суровая. Пытка должна была проходить по строгим правилам:
-всегда проводилась в присутствии врача, который удостоверялся, что обвиняемый в состоянии выдержать пытку.
-каждый вид пытки мог длиться не более 10 минут, а совокупно — не более одного часа.
-запрещалось пытать больных, беременных, пожилых и детей.
-пытка не должна была стать причиной увечья, уродства или смерти, это строго-настрого запрещалось.
-пытка должна была быть temperata, т.е. умеренной, и si conserve salvo, т.е. не опасной.
Профессиональные пыточных дел мастера из светских учреждений считали пытки инквизиции бесполезными, поскольку они были слишком мягкими. И.С. Дмитриев, автор книги “Упрямый Галилей”, чей богатый материал послужил основой для этой статьи, писал, что при подвешивании за локти на веревке инквизиторы делали это без рывков и плавно, без привязанных к ногам тяжестей. Такой "роскоши" не могли себе позволить те несчастные, что попадались в руки светских мастеров. Если обвиняемый не признавал вину и под пытками, то его признавали невиновным. В этом случае следовало бы побеспокоиться уже доносчику. Если же признание вины наконец-то свершилось, то наступал следующий этап инквизиционного процесса — отречение от ереси, если обвиняемый был готов это сделать. Что важно — испытуемый имел возможность признать вину на всех стадиях examen rigorosum, т.е. возможность избежать самого строгого наказания была всегда и чем раньше в ходе процесса — тем легче можно было отделаться.
Наконец, процедура отречения. На самом деле это не просто отречение, а protestativo, т.е. заявление обвиняемого о том, что он никогда против истинной веры ничего не имел и желает жить и умереть праведным католиком, а к ересям испытывает ненависть. У protestativo тоже было несколько разновидностей, в зависимости от степени вины подсудимого:
1) Отречение для обвиненного в de formali hearesi, т.е. закоренелой или формальной ереси.
2) Отречение для слегка заподозренного в ереси, или de leviter hearesi suspecti. В этом случае подсудимому надо было отречься перед небольшим числом лиц и в тайном месте, дабы избежать ущерба репутации и унижения.
3) Отречение для сильно подозреваемого в ереси, или de vehementi.
4) Отречение для очень сильно подозреваемого в ереси, или de violenti. В этом, как и у de vehementi, случаях отречение должно было быть произнесено на родном языке публично, перед людьми, под присягой.
Наконец, если подсудимый категорически отказывался отрекаться от ереси, то он передавался в руки светской власти. Инквизиция, целью которой было добиться отречения от ереси и возвращения к истинной вере, уже ничего не могла поделать — поскольку еретик уже не считался католиком, то он не находился в юрисдикции Церкви. Теперь он попадал в руки светского правосудия, которое могло его казнить.